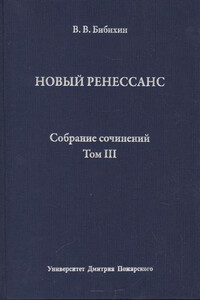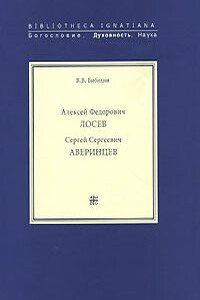Другое начало | страница 35
Ту же свободу Пушкин знает в себе. «Гордись: таков и ты, поэт, И для тебя условий нет». Он чувствует, что Петербург, середина русской истории, стал или мог стать и во всяком случае должен был стать — иначе всё бессмысленно — праздником мира; на краю бездны, в огне, среди чумы — всё равно. Пушкин знает что говорит: этот сказочный Петербург расположился под золотыми небесами.
Воинский строй как космос (порядок) и вместе его защита — не символ или образ. Со времен Гомера и раньше на войну и спортивные упражнения люди вставали строем не символически, а всем телесным существом вступаясь за порядок бытия. Побеждал не сильнейший, а более верный строю мира, способный строже подчиниться ему. Среди разных именований мира во Вступлении у Пушкина одно из главных это, от воинского строя:
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость.
Строй со звездной отрешенностью поднят над «реальностью» не в обман и вымысел поэта, а в ту тягу, влечение которой на параде и войне ведет армию вернее всякой рационализации и целесообразности. Всё в армии жалким образом собьется на сброд, если не подтянется к идеальному уставу, звездам. Космический строй у Пушкина настолько отслаивается от провальной реальности к звездной правде, что сами человеческие головы внутри медных касок оказываются заменимы:
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Строй не нарушен, а утвержден, когда знамена разодраны в клочья и в головах под медными касками пули.
Ключ поэмы, «над омраченным Петроградом», отпирает ее несколько раз. Он звучит при первом появлении Евгения, нового смиренного Пушкина «позднего» времени:
Уж было поздно и темно…
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой.
Новый Пушкин, Евгений «Медного Всадника», приходит из гостей, Древней Греции и Европы, Италии и Англии, из «энциклопедии мировой литературы», как верно был назван роман о первом Евгении, домой, к себе, в смиренную землю. Уж было поздно и темно в то время — или просто во время? Во времени поздно всегда? Время создано нашим опозданием к событию мира. По Петрограду «гроба плывут» и «как будто в поле боевом тела валяются» — это как «одров я вижу длинный ряд» в «апокалипсической песни».
Потом снова звук того же ключа в момент помрачения второго Евгения:
Ночная мгла