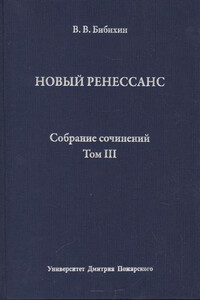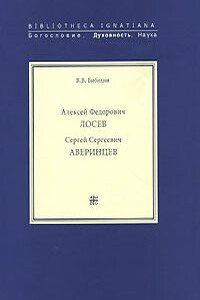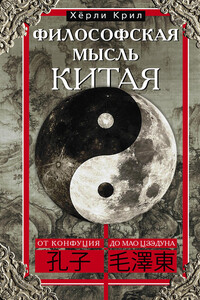Другое начало | страница 29
Тогда мы догадываемся, чтó Пушкин действительно говорил Мицкевичу до того, как стал в стихах польского поэта красноречивым романтиком. Он замечал непокой Медного всадника, искусственность его посадки, тревожной как ворочанье во сне. Покой, нетревога могли быть у такого Петра и такого памятника, с такой заказчицей, с таким скульптором?
Корни переплетаются: ночная бессонница, ворочанье в постели, ворочанье Невы как больного, жизни мышья беготня, непокой неостановившегося памятника (недаром его хотели перемещать). Топот бледного коня Пушкин убирает как слишком большую откровенность. Остается суета северной столицы с беготней мелкого чиновника и гонкой Медного всадника по ее улицам. Призвук комизма мы услышали не зря. Достоинство Фальконетовой статуи было для Пушкина не так бесспорно как для поздних поколений, для которых к памятнику уже прибавилась поэма, парадно прочитанная. К безвременью ночного статуарного движения прибавляется безвременность этого комизма, который будет развернут Гоголем в стремительности Ревизора. Тревожной темной суете ничто не мешает быть всегда. Это время сонного кошмара.
Мы тем более вправе видеть в этой поэме историю, что она сквозная, с ее прочерком «прошло сто лет», с ее взглядом в будущее, а в «Езерском» и назад до Рюрика, и с пожеланием прекращения тревожного сна, который мы увидели поздно, а Пушкин назвал рано, раньше чем мы догадались в чем дело, в конце Вступления:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия —
она не умирится раньше чем ты, только с тобой, а пока мира нет, есть суета и непокой, вражда и злоба:
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!
Мы упомянули холерные и другие бунты в России. Пушкин советовал царю не являться лично на каждый бунт, и вот почему: царь и без того уже слишком опасно связан со стихией революции. Пушкин не хуже Константина Леонтьева видел, как монархия смыкается раньше всех с коммунизмом и социализмом, не меньше ненавидел «нивелеров», чем Леонтьев «упрощающих смесителей». Петровский кнут вобрал в себя бунт, срыв покоя, снова всё смял во всеобщем уравнении. Пушкин рад, что может сказать одному из Романовых, что весь ваш дом революционеры и нивелеры (левеллеры), потому что с удовлетворением видит смену настроения у новых Романовых XIX века. Позднее их настроение будет снова сорвано общими усилиями народовольцев, террористов, экспроприаторов, эсеров и большевиков, которые вернут страну к петровскому темпу.