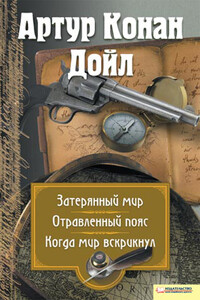Чтец | страница 46
Уже тогда, когда я размышлял об этой общности оцепененного состояния, а также о том, что оцепенение охватило в свое время не только преступников и их жертвы, но теперь и всех нас, тех, кто сидел сейчас в судебном зале в качестве судьи или шеффена, прокурора или протоколиста, когда я сравнивал при этом преступников и жертвы, мертвых и живых, выживших и потомков, -- уже тогда мне было не по себе, не по себе мне и сегодня. Можно ли делать сравнения подобного рода? Если я в каком-нибудь разговоре начинал делать попытки такого сравнения, я всегда подчеркивал, что это сравнение не изображает как нечто относительное разницу, был ты заключенным концлагеря или его палачом, страдал ты в нем или причинял страдания другим, что, напротив, эта разница и имеет самое большое, решающее значение. Однако я даже тогда натыкался на удивление или возмущение, когда говорил это не в ответ на возражения других, а еще до того как другие могли что-либо возразить.
Одновременно я спрашиваю себя, как начал спрашивать уже тогда: что, собственно, делать моему поколению потомков с информацией об ужасах уничтожения евреев? Нам не следует считать, что мы можем понять то, что является непонятным, нам нельзя сравнивать то, что не поддается сравнению, нам нельзя спрашивать, потому что спрашивающий, даже если он и не подвергает сомнению эти ужасы, все же делает их предметом разговора и не воспринимает как нечто, перед чем он с чувством трепета, стыда и собственной вины может только замолчать. Неужели нам следует молчать с чувством трепета, стыда и собственной вины? До каких пор? Не скажу, чтобы тот пыл пересмотра и просвещения, с которым я участвовал в работе семинара, во время судебного разбирательства у меня просто пропал. Но то, что кого-то из немногих осудят и накажут и то, что нам, новому поколению, придется молчать с чувством трепета, стыда и вины, -- неужели только в этом и заключается вся цель?
5
На второй неделе был зачитан обвинительный протокол. Его чтение продолжалось полтора дня -- полтора дня сухого перечисления. Подсудимая под номером один обвиняется по следующим пунктам.., она совершила.., она участвовала.., она входила.., далее ей вменяется.., тем самым состав преступления отвечает параграфу такому-то, с учетом вышеизложенного и принимая во внимание.., она действовала неправомерно и противозаконно. Ханна была подсудимой под номером четыре.
Пять женщин, сидевших на скамье подсудимых, были надзирательницами в небольшом женском лагере под Краковом, подчиненном Освенциму. Их перевели туда из Освенцима весной 1944 года для замены надзирательниц, частично погибших, частично раненых во время взрыва на лагерной фабрике, на которой работали женщины-заключенные. Один из пунктов обвинения касался их поведения в Освенциме, однако отступал на задний план перед другими обвинительными пунктами, и я уже его не помню. Может, он относился вовсе не к Ханне, а только к остальным четырем? Может, он был не таким уж важным по сравнению с другими пунктами обвинения или сам по себе? Может, просто нельзя было не обвинить того, кто выполнял те или иные служебные функции в Освенциме и кого теперь вывели на чистую воду?