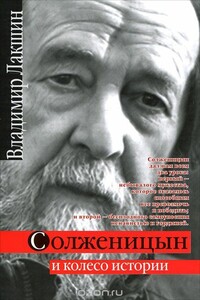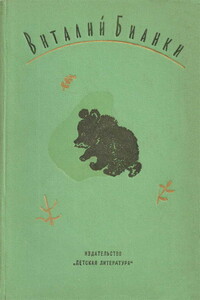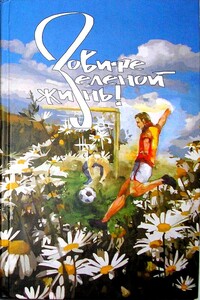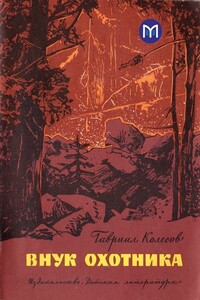Закон палаты | страница 22
Родом Толик из Иванова, мать на ткацкой фабрике работает, отца призвали в армию, осталась на руках матери младшая сестрёнка — куда ей ещё брать костыльника-сына? От матери Толик получил сюда одно только письмо-треугольник: она рада была, что Толик в Сибири, куда все эвакуированные едут, в тепле, в сухе, в безопасности от налётов, что его кормят бесплатно и держат под присмотром врачей. Чего ещё желать? Так Толик и остался ходячим при санатории.
А Толябом его вот отчего прозвали. На вытершихся овечьих шкурах, которые в санатории зовут мехами— ими укрывают ребят в морозные ночи и когда на улицу вывозят, — на этих мехах пришиты метки с фамилиями владельцев. Обычно у всех фамилия написана, а на его меху почему-то: «Толя Б.». Кто-то заметил, посмеялся, и пошло: Толяб да Толяб.
В седьмой палате Толяба любят за добрый нрав, широкую улыбку и важные для ребят услуги. Вот и сейчас он явился не пустой, да забыл, с чем пришёл. Остановился, задрал голову и, улыбаясь во весь рот, стал глазеть на новую лампочку.
— Рот до ушей, хоть завязочки пришей, — поддразнила его ширявшая щёткой под кроватями тётя Настя.
Но ни капли не обиделся он на её слова и только пуще растянул губы.
Да и как ему не улыбаться? Мечта всех ребят — хоть на день, хоть на час поменяться с ним местами. Легко сказать — ходячий. А ходячий может любую вещь подать с подоконника, достать со шкафа и с пола поднять. Его можно попросить принести кружку воды из титана, стянуть «Пионерку» в учительской, раздобыть пару спичек. Он запросто разговаривает с ребятами из старшего отделения, все санаторские новости узнаёт первым. Он может подкинуть записку приятелю в изолятор или даже поговорить с ним из-за двери. Да мало ли что ещё может ходячий? Его счастью даже не пытаются завидовать.
Между полдником и ужином Толяб не сидит на месте, а курсирует из палаты в палату — меняться. Стоит плоской его фигуре на расставленных костылях появиться в дверях, и ребята бросают все дела. Глаза их магнитом притягивает к облезлой шахматной коробке, которую Толяб прижимает к костылю правой рукой; что-то погромыхивает и перекатывается в ней при каждом его шаге.
Неизвестно, где подобрал он, приспособив для своего промысла, эту доску с дырочками из-под дорожных шахмат. Прислонив костыли в стене и сев боком на чужую кровать, Толик бережно открывает её, и, бог мой, что предстаёт тогда взору! Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть!
В груде ломаных спичек, спутанных ниток и разного мелкого сора лежат: стеклянная пробка от флакона духов, почти новый ластик, пилочка для ногтей, три белых пешки и чёрный конь, полдюжины оловянных солдатиков и среди них знаменосец, такой облезлый, что уже трудно угадать былой цвет его знамени; несколько карандашных огрызков, чиненных с двух концов, — простой, «Конструктор», и цветные — фабрики Сакко и Ванцетти. А кроме того — особо ценный, хоть и невзрачный с виду, чернильный карандаш, жестяная пряжка, красноармейская пуговица со звездой, катушка из-под ниток, высушенная бабочка «павлиний глаз», кусок изоляционной ленты и, наконец, прекрасная, с таинственным чёрно-серебряным нутром сгоревшая радиолампа. Что за удовольствие разглядывать и перебирать всё это добро под добродушное ворчание Толика: «Не лапай, не купил!»