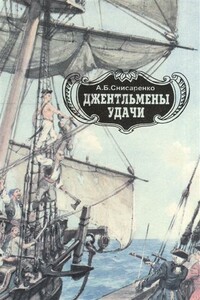Третий пояс мудрости. (Блеск языческой Европы) | страница 84
С Мореной связан славянский бог смерти Маровит и не только этимологически. Немецкий ученый Карл Йеттмар не без оснований сближает кафирского Имру с его аналогом, тоже гиндукушским, Марой, как ипостасью арийского бога смерти Ямы. У славян также был злой дух Мара, часто отождествлявшийся с Мораной. Маровит изображался с львиной головой (не ему ли раздирала пасть Хела?), короткими когтистыми лапами и тело, наполовину покрытым чешуей, наполовину перьями. Быть может, Маровит и Морана — это мужская и женская пара божеств, символы перехода в загробный мир, сохранившие свое значение в русских словах «мор», «смерть», «мертвый» и в названии «месяца смерти зимы» — марта. С этим месяцем связаны греческий Арес и римский Марс — боги войны и смерти. Славянским Марсом был и Маровит.
Морана дала имя Моравии и положила начало многим народным обрядам и праздникам, сохранившимся до нашего времени. Былинники воплотили эту тему как борьбу Добребога, или Добры (так они переосмыслили имя Добрыни) с колдуньей Мариной (Мораной). Ранней весной в городах и селениях изготавливали ее соломенные чучела — мары — и бросали их в реку или сжигали с шуточными проклятиями. Это, несомненно, воспоминание о прежних человеческих жертвах. Римский историк Марк Теренций Варрон, сообщая об аргейских, то есть греческих, обрядах в Риме, замечает, что ежегодно жрецы каждого из двадцати четырех святилищ сбрасывали со свайного моста в Тибр по одному человеку, а позднее — по одному человекоподобному соломенному чучелу. Комментатор его труда, ученый и писатель V века Макробий уточняет, что обряд этот восходил к аргивянам (ахейцам) и связывался с Гераклом. А в VIII веке придворный историк Карла Великого, а затем монах Павел Диакон упомянул, что этим же занимались и римские весталки. Подобным образом поступали во времена Диакона и друиды, сооружавшие из прутьев и трав исполинские чучела тарасков (кстати, это слово напрашивается на заманчивые аналогии с именем кафирского бога Тараскана — аналога индийского Индры).
То же проделывали и руссы с соломенными куклами Купалы и Ярилы, Костромы и Кострубонько (по-видимому, Кострома и Ярила — одно и то же). Кострома, как и Кострубонько («неряха»), или Ярила и Купала, была воплощением весны и плодородия. В культовых сценариях Кострома выступала в виде юной прекрасной девушки с дубовой веткой в руке и в белой одежде водительницы хоровода. Все эти аграрно— календарные празднества имели ту же режиссуру, что и лучше других известная Купальница — праздник Купалы — бога фруктов и урожая, «спасителя земли». В жертву ему приносили 24 июня начатки урожая, а в чистом поле, утыканном по периметру дубовыми ветками, зажигали большие костры. Юноши и девушки, увенчанные венками из цветов и лечебных трав, заводили вокруг них пляски и прыгали через огонь, а потом крестьяне прогоняли сквозь очистительное пламя скот, чтобы духи полей не причинили ему вреда.