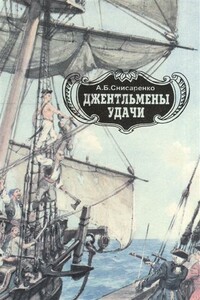Третий пояс мудрости. (Блеск языческой Европы) | страница 161
Любопытна и еще одна деталь, связывающая Кащея и Бабу Ягу. Имя Кащей руссы заимствовали из тюркского в значении раб, пленник. Яга (как и хорошо знакомый нам ягненок) на санскрите — жертва, а на древнерусском (чага)… тоже пленница! Пленник и жертва в те времена были, увы, понятиями родственными.
Но ведь ни в одной сказке эти зловредные персоны не бывали ни пленниками, ни жертвами, если не считать мимолетных эпизодов. Напротив, Кащей сам то и дело захватывал кого-нибудь и доставлял в свой замок. Баба Яга занималась тем же, после чего немедленно разводила огонь, дабы полакомиться мясом горемыки, то есть по существу приносила жертву… самой себе! Не означает ли это, что оба они первоначально были героями какого-то общего сюжета, утраченного довольно рано и невосстановимого из-за отсутствия параллелей в мифах других народов?
Можно, правда, вспомнить Геракла, отбывавшего рабство у Омфалы, и другие аналогичные мотивы, но такие построения весьма шатки. Ведь не прилипла же к Гераклу кличка «раб»! А вот то, что кащеями назывались как раз жертвы нашего персонажа, а уж потом это слово перешло на него самого — можно допустить с большой долей вероятности. Такие случаи известны. Обращает на себя внимание и двойственное написание этого имени: Кащей (основное) и Кощей. Здесь нет ни описки, ни диалектизма. На церковнославянском языке кощеями назывались княжеские отроки. Вот откуда похищение невест («право первой ночи»). Вот откуда обращение в рабство свободных рыбарей. И вот почему со временем Кощей отождествился с Кащеем. Подлинное же его имя так и осталось нам неведомым. Быть может, им было имя Флинс…
Полное имя Бабы Яги можно перевести как «жертва бабе». Баба, или вава, по-тюркски — предок. Еще скифы, половцы и другие степняки воздвигали каменные, а позднее металлические сидячие или стоячие изваяния таких баб (нередко с чашей в руке), посвящая их своим умершим предкам, чаще всего воинам и женщинам. Особо почитаемые отливались из золота и были пустотелыми (как бык Фаларида). Кочевые и охотничьи народы приносили им в жертву животных, наиболее часто ягнят, или их шкуры. Взамен статуя давала жрецу оракул. Нередко у подножия этих истуканов закалывали преступников или пленников, их кровью смазывали губы и глаза Золотой Бабы. Бывали и случаи добровольных жертв, как в Карфагене. Самый высокопочитаемый идол красовался в устье Оби, возле Обдорска (нынешнего Салехарда), куда совершали паломничества даже поляки и их западные соседи, хотя подобных баб можно встретить в Галиции, на Висле, в Западной и Восточной Пруссии. Быть может, это и навело Макферсона на мысль о том, что его кельтские предки некогда «владели Европой от устья реки Обь в России до мыса Финистерре, западной оконечности Галиции и Испании». На это можно лишь возразить его же собственными словами, что «потомки… всегда готовы верить самым баснословным россказням, лишь бы они делали честь их предкам». Писатель и поэт, профессор Дерптского университета штабс—капитан Г. А. Глинка считал Золотую Бабу богиней тишины и покоя. Немецкий дипломат и путешественник XVI века Сигизмунд Герберштейн располагал противоположными сведениями: статуя была выполнена в виде тройной матрешки и на ветру издавала «постоянный звук наподобие труб». В былинах эта Баба — уже вполне земной персонаж, хотя и принадлежащий потустороннему миру, но еще называемый не Ягой, а Златыгоркой, или Семигоркой. К ее обиталищу у Алатырь— камня ездил Илья Муромец, чтобы вступить с нею в брак, и она родила ему сына Сокольника.