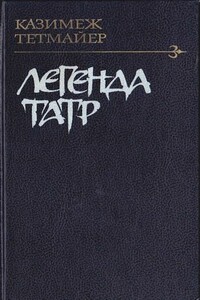Панна Мэри | страница 66
Между Мэри и ее мужем не было сказано ни одного слова о Стжижецком. Взаимный договор молчания выдвинул еще один параграф. За обедом, перед оперой, куда собирались Чорштынские, Мэри спросила:
— Ты знаешь, что мы приглашены к Лудзким. Поедем?
— Ничего не имею против, — ответил с самым равнодушным видом граф Чорштынский, и быстро добавил то, что должен был сказать, вместо предыдущей фразы: — С удовольствием, если хочешь…
Мэри обмакнула губы в ликере, муж ее — закурил сигару, так как Мэри позволяла курить в своем присутствии, когда никого не было. Потом они встали, она подставила ему щеку, так как обед кончился.
Ах! Каким противным казалось Мэри сегодня все это.
Ест и пьет на ее деньги — и за это платит ей холодностью хорошего тона. У него ребенок от нее, но он не вмешивается ни во что. Знает, что было между ней и Стжижецким, но, получая 200 тысяч в год, чувствует необходимость предоставить жене полную внутреннюю свободу. Впрочем, какое ему дело до нее?! Она — то окно, через которое кассир банка выплачивает деньги. Она красива — значит, может давать наслаждение. Мэри уверена даже, что с тех пор, как она здорова, Чорштынский ей даже не изменяет.
Но ведь это не муж!
Какой он муж!?
Лакированный, блестящий, изящный «сапог».
Интересно знать, что было бы, если бы захотела наплевать на приличия и пойти к Стжижецкому?
Ах, нет! Тогда бы на сцену выехало «имя» — «ты носишь мое имя…» «Мое имя!»
Имя, то имя, ради которого она продалась со всей своей красотой, богатством, умом, душой! Что она имеет за это? То, что когда в Варшаву приедет шах, ее пригласят на придворный спектакль в театр — и в фойе, для представления. Что аристократы, с которыми она встретится в Остендэ или в Карльсбаде, не будут ей кланяться в Варшаве с презрительной усмешкой: «О, очень приятно!» Что о ней не говорят больше, как о скаковой кобыле, на которой можно выиграть. Цель ее жизни, цель жизни такой Мэри Гнезненской, достигнута: она «удобрила» своим приданым почву аристократии. Дядя Гаммершляг, который был против ее брака, сказал ее отцу, когда она стояла в дверях комнаты: «Weisst du, Рафал, что они, эти господа, говорят о Мэри? Что это — навоз для их почвы. Weisst du, что они говорили, когда ей было 14 лет. Они говорили: пусть подрастет, а мы уж ее хапнем! Und weisst du, Рафал, что они будут говорить потом? Что этот старик, Рафал Гнезненский, очень большой осел!»
Отец тогда чуть заметно улыбнулся, точно шутке, но ведь тогда у него было общее дело с дядей Гаммершлягом.