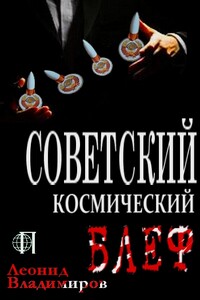Россия без прикрас и умолчаний | страница 17
В общем, никто не отказывает, и на утреннике принаряженные детишки мило лепечут рифмованную пропаганду. Родители, сидящие тут же, тают от гордости за своих способных деток, пропуская мимо ушей содержание того, что они декламируют и поют – ну кто же, в самом деле, принимает всерьез всякую детскую чепуху! Но сами исполнители принимают вирши о «мудром Ленине», о «партии, которая дала нам счастливое детство» совершенно серьезно. Они все больше этим пропитываются.
Такая обработка – с постепенным изменением методов – идет как минимум семь лет, а большей частью десять, потому что все больше и больше людей в Советском Союзе получают не семилетнее, а так называемое «полное среднее», десятилетнее образование. По ходу учебы в школе ребенок неминуемо становится членом политических организаций – в восемь лет его торжественно принимают в «октябрята», в десять – еще более торжественно – в пионеры, причем в этот момент он дает так называемое «торжественное обещание», своего рода присягу на верность партии, перед застывшими в строю товарищами.
В четырнадцатилетнем возрасте школьник получает возможность вступить в комсомол – коммунистический союз молодежи. Это важная организация: в свое время Шелепин, а потом Семичастный стали шефами тайной полиции – КГБ СССР – после того, как поработали известный период секретарями ЦК комсомола. Число желающих вступить в комсомол в последние годы сильно убывает, но и теперь около половины всех школьников становятся комсомольцами.
Октябрята, пионеры и комсомольцы проходят в этих своих организациях практический курс еще одной важной в России науки, которую я назвал бы «иерархизмом». Дело в том, что во всех детских политических организациях есть выборные «вожди», «начальники», которым остальные обязаны подчиняться. Их выбирают по всем правилам коммунистической внутрипартийной демократии, то есть формально за них голосуют (и даже против можно голосовать), а фактически избранными всегда оказываются те, кого «рекомендуют сверху». Так у одних закладываются основы карьеризма, другие приучаются беспрекословно подчиняться, и все вместе образуют первичную иерархию. Они привыкают к иерархизму и, попав после школы в строго расслоенное советское общество, не ощущают его бремени. Понятия коллективизма, то есть подчинения меньшинства большинству, и иерархизма, то есть подчинения большинства ничтожному меньшинству, не вступают в противоречие в их сознании, хотя это главное противоречие «социалистического» общества в СССР бросается в глаза каждому стороннему наблюдателю на третий день пребывания в стране.