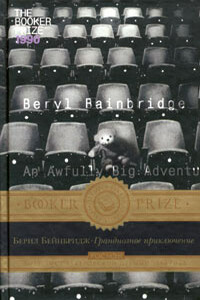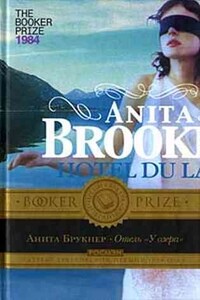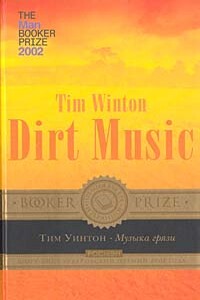Тяжкие повреждения | страница 34
— Когда полицейские вошли, парни со «скорой» тебя уже пристегнули к носилкам и собирались положить на каталку. Копы изозлились, можно подумать, тебя нужно было там и оставить. Хотя, может, я и не прав, я тогда слишком остро все воспринимал. Все казалось таким ярким и таким ясным. Не громким, но ясным.
Я сказал, что поеду с тобой, и один, которого с самого начала все бесило, стал возражать, что-то вроде: «Вы — свидетель, мы должны вас опросить». Но второй сказал: «Поговорим с ним потом, сейчас все равно надо продавца допросить, и вообще дел до черта». Как будто это работа по дому. Он смотрел на пол, где ты лежала. На кровь.
Лайл передергивается.
Сколько времени с тех пор прошло? Совсем немного, и Лайл все еще в шоке? Свидетели и близкие тоже испытывают шок или это происходит только с самими жертвами?
Айла никакого шока не чувствует. Она вообще ничего не чувствует, кроме ярости.
— Я сказал: «Тут и расследовать нечего, вы наверняка знаете этого парня, продавец его знает. Он убежал через черный ход, но вряд ли его будет трудно найти. Где-то метр семьдесят пять, конопатый, худой. Да и напуганный». Я хотел, чтобы они знали, что он испуган, это, может быть, значит, что он жалеет о том, что сделал. Не знаю, более или менее опасным он стал от испуга, но ружье лежало на прилавке, другого оружия у него, скорее всего, не было, а я не хотел, чтобы они распсиховались и стали по нему палить, когда найдут.
Какое безграничное милосердие. А как же месть? Как же преданность? Айла сама бы пристрелила этого сукина сына, если бы это могло что-нибудь исправить. Если бы это поставило ее на ноги, она бы его пристрелила. Хотя бы для того, чтобы просто сквитаться: равноценный обмен.
Она надеется, что этого парня будет вечно мучить совесть, если она у него есть, что с ним навсегда останутся те ослепительные секунды в «Кафе Голди», когда инстинкт, или желание, или ужас заставили его сделать выбор. Потому что это — выбор, и неважно, как поспешно и необдуманно ты его делаешь. Выбор означает ответственность, она в этом убеждена, это не просто прихоть; по крайней мере, не только прихоть.
Неужели такие, как он, думают, что такие, как она, ходят по улицам в бронежилетах и с оружием? Они что, думают, никто не пострадает? Если они не хотят никому зла, то зла и не будет? Не может быть? Они что, считают, что имеют право так поступать? Она в ярости. В невыразимом бешенстве. Столько несчастий и настоящих предательств за сорок девять лет — может, не так и много, но каждое из них для нее невыносимо, — и вот теперь «Кафе Голди».