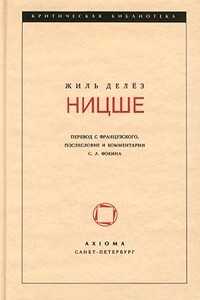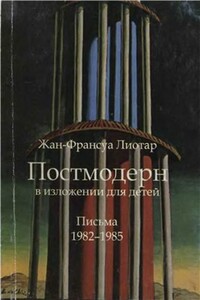Хайдеггер и «евреи» | страница 64
Об искусстве, естественно, так или иначе не преминули высказаться практически все выдающиеся философы его поколения, но из них, пожалуй, только Лиотар регулярно обращается к искусству по-настоящему современному (на современном же искусствоведческом наречии — contemporary, а не modern art) и при этом не собирается его учить, не приходит с готовыми теориями и не пытается увести его на свою, философскую, территорию, а намерен у этого, еще недоосвоенного мыслью, еще не переваренного молохом истории искусства научиться, что-то почерпнуть. Не став художником, он рассматривает живопись Ньюмена или Аракавы, слушает музыку Вареза или Шелси, ведет диалог с эстетикой Кейджа, пропуская через себя их практику. И философски диагностируя это искусство как поворот от прекрасного к возвышенному, как попытку заново картографировать, неминуемо его расширяя, ландшафт представления — и то, что из него неминуемо же выпадает.
И искусство платит в ответ сторицей. Именно искусство, новая (критическая) эстетика открывает, по мнению Лиотара, и новые пути перед онтологией, возвращая ей полноту чувственного восприятия, той чувствительности, детской чуткости, без которой мы не способны встретить небывалое событие, обрести хайдеггеровский дар бытия. И отправляясь как раз-таки от живописной фигурации, Лиотар и предпринял уже в «Дискурсе, фигуре» попытку покончить с засильем обремененного метафизическими импликациями дискурса, под эгидой Лакана навязывающего любому знанию теоретическую форму и тем самым принимающего на себя функции легитимации любого — как скажет Лиотар в следующих книгах — частного повествования, то есть претендующего на роль тоталитарного метаповествования (или мета-«нарратива») — в ущерб отбрасываемым в сферу воображаемого иным «модальностям выражения». Именно взаимодействие различных повествовательных режимов и будет в дальнейшем лежать в центре внимания философа, именно проблема их легитимизации и станет теперь центральной и, собственно, и определит отличие современности (наличие проекта метаповествования) от постсовременности (его утрата)