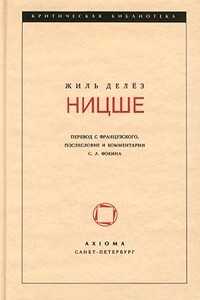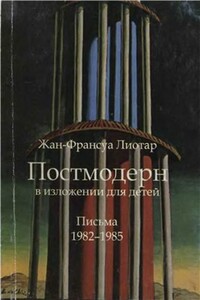Хайдеггер и «евреи» | страница 49
И вот, хайдеггеровский Kehre, в свою очередь, является революционным переворотом в формовке. Революцией, которая тоже насквозь пропитана уничтожением моделей для формовки. Нет уверенности, что он вполне неуязвим для обращения к мифу (ESSAIS, 176 sq., 204 sq.); на это указывает и «Geviert» (FICTION, 135). По крайней мере, он пытается радикальным образом принять в расчет то, что уже вписывалось в 1927 году в экзистенциально-онтологическое «установление» темпоральности, нигилизм. Он подхватывает его под рубрикой смерти Бога как «эпоху» в историчности бытия. Смысл не может представиться в присутствии, присутствие — означиться; любое воплощение иллюзорно в той степени, в которой оно «совлекает покров» с отступления бытия. Таким образом «поворот», так сказать, революционизирует сам принцип любой революции — политической, «духовной», национал-социалистической или популистски-онтологической, — поскольку она всегда является воплощением. Единственная мысль, которая удерживается на высоте катастрофы, — (остаться восприимчивым к ожиданию бога; такою ее услышал Хайдеггер в гёльдерлиновских стихах. По его словам, Гёльдерлин — немецкий Гомер. Но этот Гомер не может рассказать о возвращении к себе смысла, как еще рассказывали Гегель и литература Bildung'a. Он может воспеть лишь бесконечно откладываемое. И, возможно, только и может, что его воспеть. Дело мысли — не актуализировать, не вызывать возвращение исчезнувшего, а бдительно присматривать за Забытым, чтобы оно оставалось незабываемым. Из Fuhrer'a мыслитель превращается в Huter'a, хранителя. Хранителя памяти о забвении. Здесь, как и у Визеля, единственный рассказ, который ему остается рассказать, это рассказ о невозможности рассказа.
Заявляю: как раз в этот «момент» хайдеггеровская мысль приближается, вплоть до соприкосновения, к мысли «евреев». Если в этом искусстве ожидания имеется мимесис, он; казалось бы, может действовать лишь под запретом. От него должен остаться разве что тот далекий, как Египет, след, каковым является жалоба утерянного у-себя, искушение, возможно, снова представить «дом» отца каким-то симулякром, каким-то золотым тельцом, но желание отныне в принципе устраненное и смехотворное.
Иначе говоря, «эстетика» памяти о Забытом, анестетика, скажем: «возвышенное», каким оно было здесь обрисовано, должны найти в этом повороте благоприятный для себя момент. И придать обещанию (обещанию ничто) размах, незаслуженно придаваемый ностальгии по подлинному. Наконец, освободить «народ» от его бремени крови и почвы, от его плотского обиталища, от его хлеба и вина, как и от стольких фетишей, в которых, как предполагалось, исключительным образом означивалось предписанное ему судьбою хранение бытия. «Благоприятный момент», эта катастрофа — то, что на язычески-христианский манер все еще называют смертью Бога, — оказия переосмыслить это хранение на совершенно другой «лад», как внимание: «народ», рассеиваясь в пустыне, отказываясь формировать себя в качестве «народа», должен забросить себя сообразно тому, что «его собственное», выучив, что ни единство, ни собственность не относятся ни к его возможностям, ни к его обязанностям, что даже сама претензия на несение охраны Забытого не вызывает к нему уважения, поскольку как раз Забытое и сохраняет «народ» заложником, что бы ни происходило с его «способом» быть-вместе. И что, конечно же, Бог не может «умереть», так как он не есть какая-то (эстетическая) жизнь. Он — имя для ничто, сама без-имянность, некий всего лишь неподступный закон, который не зашифрован в природе, а рассказывается в книге. Не отступивший из мира в мир, а отступивший и сохраненный в буквах, которые, как известно, переносятся с места на место, но повсюду, при любой оказии предписывают уважение. Внешнее внутри. Бог не может, не должен умереть (и возродиться), кроме как в некоей мысли о природе, в дионисизме, орфизме, христианстве, в котором нигилистический момент распятия окажется отложен.