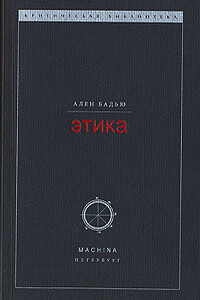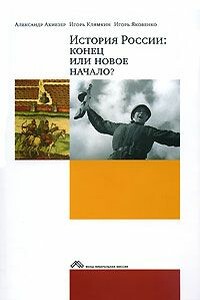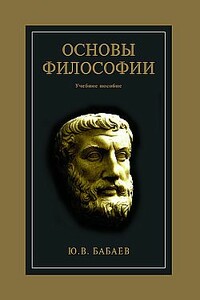Хайдеггер и «евреи» | страница 29
Письмо выживания, само зажатое стыдом, что не смогло погибнуть, стыдом, что еще может — и скорбью, что осмеливается — свидетельствовать. Оно есть то в мысли, что вопреки себе выживает, когда философская жизнь становится невозможной, когда больше не приходится надеяться на прекрасную смерть, а героизм перешел на сторону врага. И, уточняю, эти микрологии — не для того, чтобы отточить мысль о бытии в катастрофе, об убытии. Они также — и minima moralia, слабые отсветы, которые вопреки всему испускает в развалинах этики Закон.
И третья очевидность дьявола заключается в том, что это совершенное над Другим убийство, расследованием которого заняты мысль и письмо, это уничтожение не просто имело место единожды — тогда, в Освенциме, — а другими, с виду совершенно другими методами имеет место и сейчас в «управляемом обществе», в «позднем капитализме», в научно-технической системе — какое имя ни дай тому миру, в котором мы живем. В котором мы выживаем.
Я должен сделать несколько оговорок, возражений в адрес мысли Адорно. Недооценка и даже игнорирование — в том, как он использует Фрейда, — проблематики изначального вытеснения и бессознательного аффекта, существенной, однако, для его подхода к непредставимому. Неправильная или расплывчатая разметка того, что противопоставляет в кантовской эстетике возвышенное прекрасному. И все еще слишком «спекулятивное» подхватывание самого Маркса, в котором жесткость экономики не доводится до своих крайностей, где бы она наверняка встретилась с не меньшей жесткостью фрейдовских динамики и экономики и с другой, более скрытой, но столь же «активной» в критической разработке, — жесткостью «топики» и «экономики» способностей у Канта.
Но здесь не место деконструировать Адорно, да и речь не о том, чтобы преподать ему урок. Такая, как она есть, его мысль обращается и обращает нас к эстетике. К эстетике «после Освенцима», в научно-техническом мире. Не стоит ли задать вопрос, почему вдруг эстетика? Из-за особой склонности к искусству, к музыке? Дело в том, что вопрос о катастрофе есть вопрос, как я уже говорил, бесчувственности: анестезии. Я вкратце напомнил о подобных обстоятельствах в кантовском анализе возвышенного. О неспособности произвести формы для представления абсолюта (вещи), в которую впадает воображающий разум. Эта неспособность к формам кладет начало и внятно артикулирует конец искусства, не как искусства, а как прекрасной формы. Если искусство продолжается, а оно продолжается, то это уже совсем другое, вне хорошего вкуса, стремящееся выявить и выделить то ничто, ту аффектацию, которая ничем не обязана чувственному, и всем — некоторому нечувствительному секрету. Кант пишет о возвышенном, что оно есть «духовное чувство» (INTRODUCTION, 84). С формами представления катастрофа касается природы, тех знаков, которые, как считается, она нам подает.