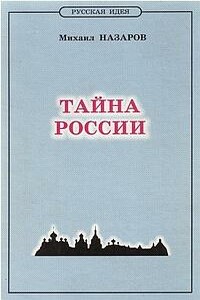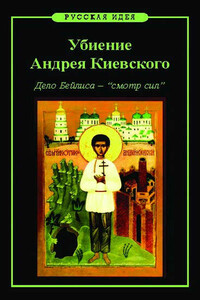Миссия Русской эмиграции | страница 7
Хочется надеяться, что это драгоценное достояние русской культуры, еще практически не открытое культурой міровой – приобретет и для всего міра новый статус, когда оно будет представлено не от группки эмигрантов, а от имени самой России. Россия его уже вбирает, жадно впитывает, находя в нем ответы на самые насущные вопросы:
«Мы становимся свидетелями удивительного процесса, который предчувствовался лишь очень немногими людьми, а большинству казался просто невероятным: книги, написанные нашими мыслителями в изгнании более полувека назад и напечатанные мизерными тиражами, становятся насущно необходимыми нам сегодня, - подчас они звучат гораздо актуальнее и глубже, чем то, что пишут современные политологи и публицисты...», авторы этих книг «воспринимаются как наши современники, не только органически вписывающиеся в нынешние дискуссии, но и подчас дающие им то направление, которое приводит к истине». «Это безпрецедентное явление в истории культуры»[6]...
Хотя, конечно, и в этой области не обошлось без трудностей, ошибок и опасных соблазнов (в том числе и у перечисленных знаменитостей) – осваивая наследие русской эмиграции, их тоже нужно знать; им тоже будет уделено внимание в этой книге (том II).
Все три функции были присущи российской эмиграции изначально и дали свои результаты. Конечно, их выполняла очень малая ее часть. В целом русская эмиграция даже в лучшие времена представляла собой незавидное зрелище – нет необходимости это скрывать. Потому что результат в данном случае измеряется не количеством, а качеством. И разные волны эмиграции внесли в этот результат разный вклад.
Первая эмиграция была элитарна, коммунистический режим – силен, и ее роль оказалась особенно важна в выполнении первой и третьей задач. Поскольку "естественный отбор" первой волны эмиграции в значительной мере произошел на основании тех традиционных ценностей, которые новая власть преследовала наиболее жестоко, национальная и творческая заслуга первой эмиграции для России – наиболее велика. Да и хронологически первая эмиграция была ближе к истокам катаклизма; она смогла и за пределами России застать неоднородный, кризисный мір, давший много пищи для размышления.
Вторая эмиграция, "отбор" в которую был проведен наиболее жестокими репрессиями власти над народом, представила все социальные слои, имевшиеся к началу войны. Это был сколок общества уже советизированного, обезглавленного, но и наиболее ожесточенного после репрессий, наиболее непримиримого к режиму – что проявилось в трагической попытке создания Русской Освободительной Армии в военные годы... Неудивительно, что после войны эта часть российской эмиграции ставила акцент на выполнении второй функции: на активной политической деятельности, в чем-то копируя большевиков, часто при невнимании к духовному процессу. Это создавало некоторую трещину между первой и второй волнами, которая зарастала не сразу. Расколы в НТС 1950-x годов – типичный этому пример. Лишь постепенно вторая волна воспринимала культурно-религиозные ценности, хранимые первой, дорастала до духовного уровня задач, но все-таки мыслителей должного калибра дала мало.