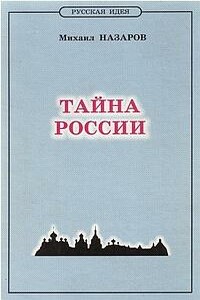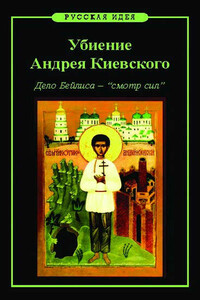Миссия Русской эмиграции | страница 24
Как писал об этом И. Шмелев, на фоне всей Европы выделялась «Одна страна – не из великих держав! – одна христианская страна, былая малая Сербия», которая приняла русских изгнанников как православных братьев-славян и «явила высокий пример чести, братства, совести, благородства, исторической памяти и провидения грядущего...»[40]. Здесь сказалось и влияние сербского духовенства (особенно – патриарха Варнавы, воспитанника С.-Петербургской Духовной Академии). Югославия не признавала советскую власть вплоть до конца 1940 года – и никакие советские посольства не могли осложнять жизнь эмигрантам (как это бывало в других странах).
Таким образом, в православной Сербии, давшей приют и основной части русского зарубежного духовенства, и штабу ген. Врангеля – в начале 1920-х годов образовался национально-религиозный центр эмиграции. Но политически более активные, либеральные эмигранты имели более заметные культурные столицы: Берлин, Прагу и, разумеется, Париж.
Берлин, из-за близости к России, поначалу превратился в «проходной двор», через который эмигранты постепенно распределялись по другим странам. В 1919-1921 гг. в Германии насчитывалось 250.000-300.000 русских эмигрантов, в 1922-1923 гг. – около 600.000, из них 360.000 в Берлине[41].
В эти же годы по причине инфляции марки там были выгодны типографские работы – и Берлин вошел в историю эмигрантской литературы огромным количеством издательств (к 1924 г. Союз русских издателей в Германии насчитал их в Берлине 87 из общего числа 130 во всей эмиграции)[42]. Как утверждают, немецкая статистика отметила тогда, что годовая продукция русских книг в Германии превысила число немецких[43].
В то время еще не было четкой границы между литературой на родине и в зарубежье: эмигрантские издательства своей свободой привлекали немало авторов из советской России, а там выходили произведения эмигрантов И. Бунина, Р. Гуля, В. Шульгина, воспоминания белогвардейцев. Такие журналы, как «Новая русская книга» (1922-1923, Берлин; редактор А.С. Ященко), пытались наводить мосты между Россией и эмиграцией, стараясь стоять «над схваткой» и не акцентировать внимание на политических разногласиях (наиболее антибольшевистской публикацией этого журнала, кажется, стали «Стихи о терроре», присланные М. Волошиным из Крыма...).
Все это было возможно, поскольку цензура у большевиков в 1920-е годы была еще не столь строга. В берлинских «Клубе писателей» и «Доме искусств» происходило оживленное общение литераторов из эмиграции и из России (приезжали С. Есенин, В. Маяковский, Б. Пастернак, Б. Пильняк, К. Федин, В. Шкловский). Некоторые из них (например, А. Белый, М. Горький, И. Соколов-Микитов, А. Толстой, И. Эренбург) занимали промежуточное положение и не сразу решили, какую сторону им выбрать... (Правда, большевики уже тогда использовали эту ситуацию для разложения эмиграции, пропагандируя возвращение на родину; к тому же они разорили издательство Гржебина и ряд других, дав огромные «твердые» заказы на книги, а когда тиражи были отпечатаны – отказались платить и распространять; так же поступили с журналом М. Горького «Беседа».)