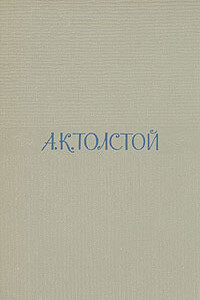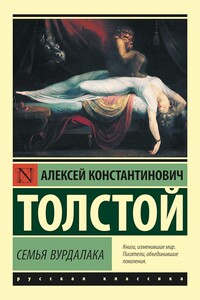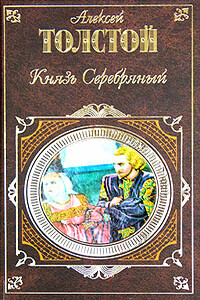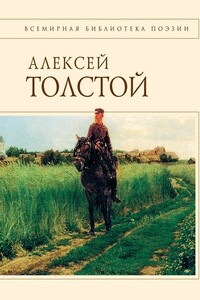Том 1. Стихотворения | страница 12
Умение схватить и передать в слове формы и краски природы, ее звуки и запахи характеризуют целый ряд лирических стихотворений, баллад и былин Толстого. Вспомним хотя бы того же Садко, который томится в подводном царстве и всем своим существом тянется к родному Новгороду; его сердцу милы и крик перепелки во ржи, и скрип новгородской телеги, и запах дегтя, и дымок курного овина. Даже в послании к Аксакову, где Толстой подчеркивает свое влечение в «беспредельное», он с большей художественной силой говорит о любви к «ежедневным картинам» родной страны, о чумацких ночлегах, волнующихся нивах, чем об «иной красоте», которую он ощущает за всем этим. Особенно привлекает Толстого оживающая и расцветающая весенняя природа. Могущественное воздействие природы на душу человека исцеляет от душевной боли и сообщает голосу поэта оптимистическое звучание.
Значительная часть лирических стихотворений Толстого объединена образом «лирического героя»; лирическое «я» в этих стихотворениях общее и наделено более или менее постоянными чертами; это черты личности самого поэта, знакомой нам по его письмам, свидетельствам современников и пр. В большинстве же любовных стихотворений общим является не только «я», но и образ любимой женщины. У читателя создается впечатление, что перед ним нечто вроде лирического дневника, передающего характер и историю взаимоотношений между героями.
Образ любимой женщины в лирике Толстого, если сравнить его с аналогичным образом в поэзии Жуковского, более конкретен и индивидуален, и в этом отношении Толстой, как и Тютчев, не говоря уже о Некрасове, отразил в своем творчестве движение передовой русской литературы по реалистическому руслу, ее достижения в области анализа человеческой души. При этом образ любимой женщины проникнут в лирике Толстого чистотой нравственного чувства, подлинной человечностью и гуманизмом. В его стихах отчетливо звучит мотив облагораживающего действия любви.
Склонность к густым и ярким краскам соседствует у Толстого с полутонами и намеками. «Хорошо в поэзии не договаривать мысль, допуская всякому ее пополнить по-своему», — писал он жене в 1854 году. Эта намеренная недоговоренность отчетливо ощущается в некоторых его стихотворениях: «По гребле неровной и тряской…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…» и др. — и не только в лирике. «Алеша Попович», «Канут» должны были прежде всего, согласно замыслу поэта, не описывать и изображать что-либо, а внушить читателю известное настроение. Передавая впечатление от песни Алеши Поповича, Толстой вместе с тем дал характеристику этих тенденций своей собственной лирики и заданий, которые он перед нею ставил: