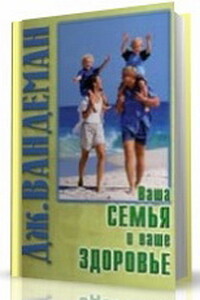Сочинения | страница 32
XXIV. Но возвратимся к Апостолу. О Тимофее, говорит он, предание сохрани, уклоняяся скверных новизн слов. Уклоняйся, говорит, как будто ехидны, как будто скорпиона, как будто василиска, дабы не поразили тебя не только прикосновением, но и взглядом и дыханием. Что значит уклоняться? Значит: с таковым ниже ясти (1 Кор.5:11). Чего же уклоняйся? Аще кто, говорит, приходит к вам, и сего учения не приносит (2 Ин.1:10). Какого это учения, кроме кафолического, всеобщего и неизменного, которое распространяется из века в век посредством неповрежденного предания истины и имеет продолжиться в безконечные веки? Что далее? Не приемлите его, говорит, в дом и радоватися ему не глаголите: глаголяй бо ему радоватися, сообщается делом его злым (2 Ин.1:10.11). Скверных, говорит, новизн слов. Каких это скверных? Таких, которые ничего не имеют ни святого, ни боголюбезного, совершенно чужды таинниц Церкви, которая есть храм Божий. Скверных, говорит, новизн слов. Слов — то есть новых учений, дел, мнений, противных старине и древности, в случае принятия которых необходимо должна рушиться вера блаженных отцов или вся, или по крайней мере в большей части, и необходимо будет объявить, что все верующие всех веков, все святые, все непорочные, подвижники, девственницы, все клирики, левиты и священники, столько тысяч исповедников, столько воинств мучеников, такое множество знаменитых городов и народов, столько островов, областей, царей, языков, царств, наций, наконец почти вся уже вселенная, чрез кафолическую веру совокупившаяся с главою Христом во едино тело, в течение стольких веков блуждали в неведении, погрешали, богохульствовали, не знали, чему верили. Уклоняйся, говорит, скверных новизн слов, принятие которых и последование которым никогда не бывало делом православных, но всегда было делом еретиков. В самом деле, не всякая ли ересь возникала всегда под известным именем, в известном месте, в известное время? Не тот ли всегда основывал ереси, кто сначала сам отделялся от согласия со всеобщностью и древностью вселенской Церкви? Справедливость сего яснее дня видна из примеров. Так, кто до непотребного Пелагия надмевался когда–нибудь такой силой свободного произволения, что не считал при том благодати Божией необходимой для вспомоществования в добрых делах при каждом действии? Кто до уродливого [ [34]] ученика его Целестия отрицал, что преступлению Адамову повинен весь род человеческий? Кто до нечестивого Ария дерзал рассекать единство Троицы, а до беззаконного Савеллия — сливать Троичность единства? Кто до безчеловечнейшего Новациана называл Бога жестоким, потому что Он хочет будто бы смерти грешника, а не того, чтобы он обратился и был жив? Кто до умерщвленного приговором апостольским Симона волхва (от которого, по непрерывному и тайному преемству, дошел омут непотребств даже до новейшего Прискиллиана) дерзал называть Творца Бога виновником зла нравственного, то есть беззаконий, нечестий и подлостей наших, утверждая, что Бог своими руками сотворил естество людей таким, что оно по собственному какому–то побуждению и по влечению какого–то неминуемого расположения ничего иного не может, ничего иного не хочет, кроме греха, так что, подущаемое и воспламеняемое неистовствами всех пороков, с ненасытимой жадностью увлекается в бездну всех мерзостей? Примеров такого рода, опускаемых нами по заботливости о краткости речи, бесчисленное множество. Но все они явственно и наглядно показывают, что у всех ересей введено почти в обычай и постановлено, как закон, всегда услаждаться непотребными новизнами, гнушаться древними узаконениями и через прекословия ложно так называемого ими знания претерпевать кораблекрушение, в вере (1 Тим.1:19). А православным, напротив, действительно свойственно сохранять предания и заветы святых отцов, осуждать непотребные новизны и. согласно слову Апостола, дважды изреченному им, анафематствовать того, кто благовестит не то, что принято (Гал.1:8.9).