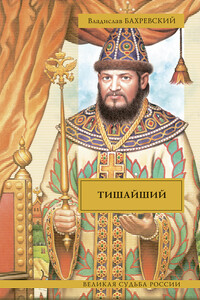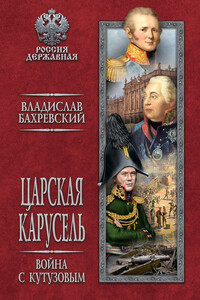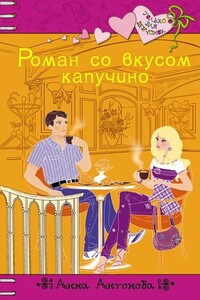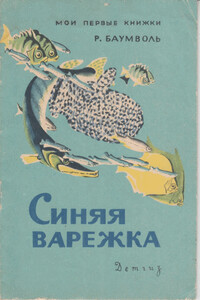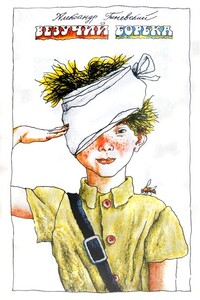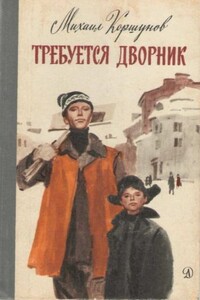Кипрей-Полыхань | страница 38
Но все-таки основное в его творчестве — родная земля. Как ни соблазнительны поездки на Памир, Камчатку и далее — в Турцию, Грецию, Сирию, Иорданию, в Шри-Ланку, Индию, Эфиопию, которые для писателя всегда дают и толчок к новым замыслам, и интересный материал, но без родимой почвы, земли детства писатель — словно Антей… Взгляд на мир с любой высоты начинается для Бахревского с Рязанщины, Нижегородчины, Подмосковья, где провел он трудные и счастливые годы отрочества и юности. Здесь истоки поэтического мира его рассказов, стихов, исторических повестей, собранных в книги «Дюжина», «Лошадиная поляна», «Земляника», «Кипрей-Полыхань», и его сказок, таких, как «Дядюшка Шорох и Шуршавы», «Кто спасет воробушка?» И конечно же, здесь корни его увлечения русской историей. Как не вспомнить его разбойника Кудеяра («Клад атамана»), его яростных свободолюбцев-псковичей («Всполошный колокол»), его земляков — орехово-зуевских ткачей, зачинателей организованного рабочего движения в России («Морозовская стачка» и «Голодный поход»).
Но все это было потом. А вначале… Надо отдать должное тогдашнему директору издательства Константину Федотовичу Пискунову. Был у него хороший обычай — самому непременно встречаться с новичками, прочесть рукопись и побеседовать, повыспрашивать — с чем человек идет в литературу, с каким багажом и с каким настроением, в чем его надо поддержать или к чему подвигнуть. Лесное детство стояло за плечами автора, когда он писал свою первую книгу. В лесу человеку жить не просто: надо и дрова рубить, и сено косить, но ведь только отер со лба пот, разогнул спину — и вот она, колдовская сказка столетних сосен, затаившегося озерка… Покоряет убежденность Бахревского в том, что есть они, чудеса! Есть, не зря же столько сложено о них легенд и сказаний. Если это всего лишь отражение живущих в народе мечтаний, то и они не на пустом месте родились. Попробуйте проникнуть в глубь сказки — в ней же концентрация духовности высшей пробы. Духовности не в смысле веры в нечто потустороннее, а как сгустка лучших нравственных порывов… И какое же у хорошей сказки легкое дыхание, какая свобода обращения с временем и пространством! И какой притом изумительный реализм в деталях, узнаваемость в житейски достоверных подробностях, какое знание природы…
Добрым духом сказки, верой в простые и естественные чудеса овеяны, пожалуй, все книги Владислава Бахревского. Читатель убедится в этом сам, открыв хотя бы вот эту книгу. Федя, юный герой повести «Голубые луга», так увлечен игрой в придуманную им самим Ту Страну, чудесную, сказочную, которая есть рядом с нами, а может, внутри нас, что все время ищет тропинку в нее, ищет какой-то таинственный знак, который открыл бы ее наяву. Игра? Но за нею так много стоит. Прежде всего, словно бы языческое, очень древнее, а теперь — наисовременнейшее (его можно бы назвать экологическим мышлением) отношение к природе. Большинство хороших людей, о которых рассказывает писатель, воспринимают природу как одно огромное живое существо, где все слито, взаимосвязано какой-то еще не разгаданной общей тайной. Маленький герой первой же повести Бахревского «Мальчик с Веселого» допытывается у лягушонка: «Скажи мне, нас никто не слышит, откуда берется вода в ключе?» Он убежден, что еще чуть-чуть — и научится понимать язык живых существ… Вот и Федя из «Голубых лугов», приникнув к земле и глядя в небо, задумывается: «Не может же быть так, чтоб небо — только воздух, а земля — только песок, глина, камни.