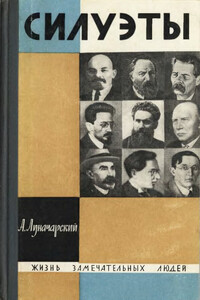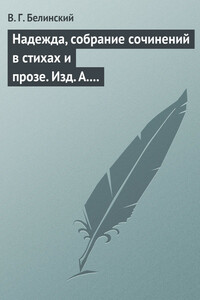Том 7. Эстетика, литературная критика | страница 38
Шопен странен и капризен, иногда он хандрит так расслабленно, извращенно, изнеженно и истерично, что вам хочется назвать его вредным художником… Но у него прорывается иногда такая удаль, такой размах дикой натуры, вырвавшейся из-под фрака салонного виртуоза неврастении, что вы забываете все, и самый контраст вас с ним примиряет.
Но романсы Чайковского, которые проносятся перед вами, как горящие умирающим светом облака грустного северного заката, все разнообразны и все одинаковы: во всех тоска, смерть, дурные предчувствия, надорванные страсти. Кто любит исключительно Чайковского, тот — нездоровый человек; в биологическом отношении — дурной человек. Только дурной человек может любить, когда ему расстраивают нервы бесцельно, и чем искуснее это делают, тем хуже, конечно. О! мы не сомневаемся, что здоровый человек, до сладкой боли наслушавшись Чайковского в полутемной комнате, выйдет на чистый воздух, вздохнет полной грудью и скажет: «А жизнь все-таки хороша»; но ведь и сырые подвалы полезны здоровому человеку, и они дают ему еще сильнее оценить прелесть свежего, вольного, широкого ветра…>15
Не надо украшать умирающим людям, декадентам, не надо им украшать жизнь. Пусть она будет сера и монотонна до дна! Пусть он видит, серый, посредственный обыватель, что его вялость и трусость пошлы и презренны.
Но нет, свой пессимизм — плод хилого организма и жалкой воли — он желает возвести в мировую философию трагизма жизни, свои нервные припадки — в печать особой культурности, свою хандру — в загадочную и очаровательную грусть, и вот они организуются, маленькие сподвижники Аримана. Во главе их становятся их знаменосцы, их барабанщики, их генералы. Художники протягивают им черные плащи, чтобы задрапировать их тщедушную худобу, они играют им тихие напевы, они забавляют их игрою усыпляющих калейдоскопов.
Наше понимание искусства не препятствует нам ненавидеть искусство жизнеотрицания. Пусть мысль свободна, но свободному отрицанию жизни, разукрашенному метафизическими румянами, мы противопоставим свободную насмешку… Пусть красота священна, но мы хотели бы безжалостно сорвать и самые красивые ризы и показать, что это только саван скелета смерти, завеса над черной расщелиной, над входом в небытие.