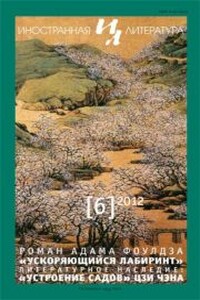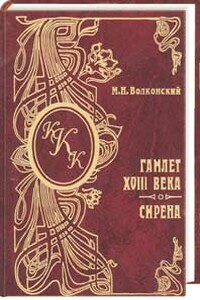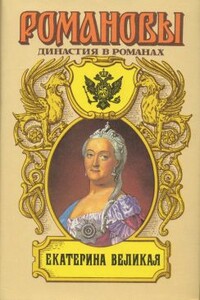Ускоряющийся лабиринт | страница 71
Муравьи перелетают через него и уносятся дальше. А ему дальше не уйти. Ярость, страшная ярость поднимается в нем, словно вода в канале, где только что открыли шлюз. Он прижимается к дереву, опускает глаза и видит корни, уходящие вглубь земли. Руки адмирала. На миг и у него самого оказываются такие же толстые, похожие на корни пальцы, искривленные и одеревенелые. Он встряхивает руками — и вот их уже нет. Но они появляются на ногах и врастают в землю. Мучительно деревенеет тело, твердеют ноги, словно жесткое кольцо свивается вокруг них, поднимаясь все выше. Он вздымает вверх руки. Они потрескивают, ветвятся и тянутся к свету. Кора покрывает губы, покрывает глаза. Он слепнет, извергает из себя листья и побеги. Рвется ввысь, в небо, сжимаясь, ветвясь, утончаясь, до самой сути, до обнаженных нервов. Его насквозь пронизывает безжалостный ветер. Он больше не может говорить.
Стоит в самой глуши мира.
Доктор Аллен чувствовал себя в этом новом обществе как рыба в воде. Томас Ронсли привел его на неформальную встречу местных промышленников, людей бодрых и жизнерадостных, честолюбивых и двуличных. Они ели мясо и пряное суфле из печеных яблок. Пили пиво. По окнам барабанил легкий дождик. Дымились трубки. Ронсли, выпив, оказался совсем другим человеком. Всю его чопорность как рукой сняло, и Аллен увидел его ребячливым и возбужденным, краснолицым, неуклюжим и горластым. Ронсли представил своего нового знакомого финансистам и попросил подробно изложить свою схему, что тот с готовностью и сделал. Он получил их одобрение, поведав, как ему повезло, что у него под рукой лес, есть угольщики, позволяющие превратить его в столь необходимое топливо, и есть воображение, благодаря которому лесоматериал может превратиться во что угодно. Дубление и кораблестроение — это уже прошлый век. А они сделают шаг вперед. Сидя среди них, Аллен чувствовал себя на порядок выше всех присутствующих, ведь он наделен столькими талантами, образован, да еще и автор книг по химии и человеческому безумию. Его самомнение лишь подкреплялось их улыбками, их заинтересованными взглядами. На миг он даже услышал в своем голосе голос отца, проповедующего сандеманцам. Когда он закончил описывать свой пироглиф, ему даже зааплодировали. А Ронсли взял кувшин и плеснул ему еще пива.
Альфред Теннисон пошел пройтись, чтобы разогнать кровь. Весь день он был погружен в тоску. Да-да, именно «погружен»: его тоска была мягкой, темной, илистой и вязкой. От нее тянуло речным дном, тянуло им самим. За весь день — ни строчки. Вокруг валялись недописанные стихи, в саду гудели насекомые, муха билась твердым лбом о стекло. Он сидел и курил, курил, пока его бестолковая голова не наполнилась дымом, словно воздушный шар, пока сердце не заколотилось, а руки и ноги вконец не ослабели. Издали до него доносился стук топоров: где-то среди деревьев трудились лесорубы.