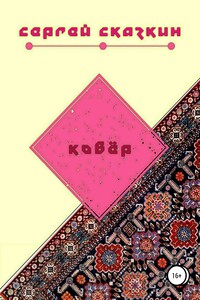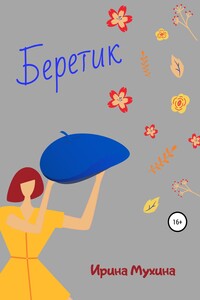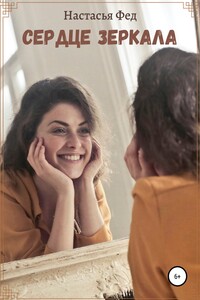Упирающаяся натура | страница 74
А тут, глядите, — сито и берестяной короб.
Проще без доказательств согласиться с тем, что книжный шкаф — это «уходящая натура», чем доказать обратное, по крохам собирая нудные аргументы. И дело вовсе не в том, что «скоро ничего не будет: ни театра, ни кино, ни книжек — одни ай-пады». Читать перестают не те, кто при первой возможности предпочитает этому занятию гейминг, шопинг, петинг и прочую реальную жизнь (хотя статистика и книжная индустрия ориентируются именно на таких людей). Эти-то как раз понемногу читают (и поддерживают отрасль наплаву, ибо много их). По-настоящему тревожный симптом заключается в том, что читать перестают становые, окончательные читатели, фундаменталисты, бетон. Те, кого от чтения отвращает никакой не ай-пад, а само чтение.
Не реальная жизнь с шейпингом захватила их, а просто читать стало… ну, не то чтобы нечего. Читать стало невозможно. Неинтересно. «Как-то странно». Тупое это дело — читать.
То, что раньше осознавали единицы: Гоголь, Толстой, Розанов (что занятие литературой — дело понарошечное, несерьёзное и немного стыдное), — что потом осознали деконструктивисты (литература с жизнью находятся в ревнивом конфликте: грубо говоря, что опишешь в литературе, то исчезает из жизни) и творчески развили постмодернисты (…а стало быть нельзя писать литературу всерьёз, про серьёзное), — всё это теперь вдруг стало достоянием массовой читательской интуиции.
Идея овладела массами. Овладела, как обычно, во сне, незаметно. Массы пока думают, что они так не думают. Тем, кто каждый день, как на работу (и как на праздник) ходит на «ярмарку интеллектуальной литературы», вышеприведённые рассуждения покажутся вздором. Не исключено, что именно потому, что настоящий-то интеллектуал теперь на ярмарку интеллектуальных книг не ходит. Не интересуется, кому там в очередной раз вручили «Большую книгу». И обходит стороной большинство книжных магазинов как места заведомо нехорошие и бессмысленные.
Чтение художественной литературы во взрослом возрасте характеризует либо баловня (такое уж у него хобби: шейпинг, каякинг), либо человека не очень зрелого. Художественная литература как почтенное, уважаемое занятие уходит в прошлое. Невозможна она после Гоголя, Толстого, Розанова и деконструктивистов-постмодернистов, как поэзия после Освенцима. То есть возможна, но лишь для тех дураков, которые не понимают, что невозможна. И дело это теперь дурацкое.
Скажем, в этом году «Большая книга» не смогла выбрать ни одного «серьёзного» (в традициях благословенного XIX века) романа. Наградили Шишкина (трогательная изящная девичья поделка), Сорокина (настольная игра для кидалтов) и Быкова, чей «Остромов…» на фоне первых двух и впрямь Лев Толстой, а на фоне Толстого — «Мастер и Маргарита». А такого, чтобы не на потеху и не на возбуждение эстетского нерва, а чтобы ахнуть — «вот как в жизни бывает», и задуматься, и долго мрачным ходить, — такого не нашли, нет.