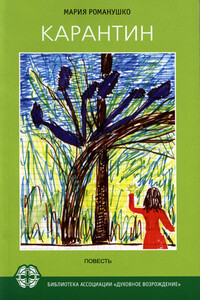Наши зимы и лета, вёсны и осени | страница 36
Чувствуя, что в этом моём состоянии (точнее – противостоянии радости жизни) повинна бабушкина болезнь, я в эти дни невольно отчуждалась и от бабушки. Я жалела её, но ещё больше – боялась; не находя в себе сил приласкать её, чувствовала себя виноватой перед ней, и так запутывалась в противоречивых переживаниях, что желала только одного: чтобы это как можно скорее кончилось. Я согласна была даже умереть, только бы не слышать бабушкиных стонов, которые разрывали мне сердце, не слышать запаха лекарств, только бы избавиться от мучительного разлада в душе.
Вошедшее под нашу крышу это, дышащее холодом, пугающе-огромное и невместимое, но всё же странным образом уместившееся в крошечной комнатушке, лишало её привычного уюта, делало холодной и мрачной. Находиться в ней было зябко, тоскливо. В игрушки не игралось. Во двор, к детям, я выйти не могла, как бабушка меня ни уговаривала. Я садилась на корточки у стены, в уголке между столом и шкафом, и так, в тягостном оцепенении, могла просидеть очень долго. В тоскливом предчувствии, что вот-вот произойдет что-то ещё более страшное. Казалось, что болезнь, холод и неуют – только предвестники, только намеки и подготовка к тому, о чём и подумать было страшно…
К счастью, болезни уходили. С ними уходило из нашего дома невыразимое, леденящее это. В комнату возвращались родное тепло и уют, она вновь обретала свои привычные, милые сердцу звуки и запахи. Опять стучала бабушкина машинка, пахло свежестью, чистотой, новой материей: без работы бабушка не сидела ни дня…
Вспоминая о детстве на Философской улице как о долгой жизни, помня эту жизнь во множестве мельчайших подробностей, я совершенно не помню чередования времен года. Моя память не отделяет одно лето от другого, одну зиму от другой…
Когда я вспоминаю детство на Философской, я вспоминаю одну долгую зиму – и одно долгое лето. Один день весны. И один-единственный, короткий и обжигающий, как укол, миг осени…
…Снег ложился в конце ноября. Влажный, рыхлый снег южной зимы.
Помню: я вышла утром на веранду и замерла, пронзенная его острым, щемящим запахом. Перила веранды, ступени деревянной обшарпанной лестницы, наш маленький дворик, шумный летом и притихший к зиме, – всё выглядело преображённым, светилось праздничной белизной… Но особенно хороши были клены. Два клена нашего двора. Их белые кроны, как два огромных пушистых шара, сияли, источая пронзительную свежесть, как раз на уровне веранды, на уровне моего лица. Их сияющая свежесть холодила щеки, проникала глубоко в легкие. Слегка кружилась голова, ныло сердце и почему-то хотелось плакать…