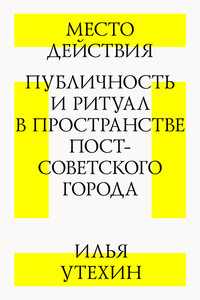Психическая болезнь и личность | страница 89
В таком случае возникают два вопроса: как наша культура пришла к тому, что стала придавать болезни смысл девиации, а больного наделять тем статусом, который само же и исключает? И как, несмотря на это, наше общество выражается в тех болезненных формах, каковым оно отказывает в признании?]
Запад лишь совсем недавно наделил безумие статусом психического заболевания.
Говорили — слишком много говорили — о том, что до прихода к власти позитивной медицины душевнобольного считали одержимым. И вся история психиатрии до сего дня стремилась представить безумца Средневековья и Возрождения никому не понятным больным, попавшим в сеть, сотканную всей совокупностью религиозных и магических значений. Итак, нужно было дождаться объективности ясного медицинского или, точнее, научного взгляда, для того чтобы отыскать изменение естества там, где ранее видели лишь сверхъестественные перверсии. Основанием такой интерпретации являются: фактическая ошибка — безумцев считали одержимыми; необоснованный предрассудок — люди, считающиеся одержимыми, признавались психически больными; наконец, ошибка доказательства — вывод о том, что если одержимые и в самом деле были безумными, с безумными, разумеется, обращались как с одержимыми. И действительно, эта многогранная проблема одержимости непосредственно связана, скорее, не с историей безумия, а с историей религиозных представлений. До XIX века медицина дважды сталкивалась с проблемой одержимости. В первый раз в 1560–1640 гг. — когда Й. Вейер>119 из Дункана по призыву Парламента, правительства и католической иерархии боролся с некоторыми монашескими порядками, продолжающими практику инквизиции: врачей обязали доказать, что все сделки с Сатаной и дьявольские ритуалы можно объяснить властью необузданной фантазии. Во второй раз в 1680–1740 гг. — в ответ на призыв всей Католической церкви и правительства противостоять всплеску протестантского и янсенистского мистицизма, борьба с которыми началась в конце правления Людовика XIV; тогда врачи были созваны церковными властями, чтобы продемонстрировать, что все случаи экстаза, боговдохновленности, пророчества, одержимости Святым Духом были обусловлены (разумеется, у еретиков) лишь значительными изменениями ума или нравов. Аннексия всех этих религиозных или парарелигиозных явлений медициной, стало быть, есть только побочный эпизод по отношению к той большой работе, которая конституировала психическое заболевание. И главное: психическое заболевание является не столько продуктом развития медицины — это сам религиозный опыт, дабы получить преимущество, словно бы вдобавок апеллировал к медицинской критике. Повороты истории таковы, что впоследствии подобную критику медицина направит на все религиозные феномены и вновь обратится, благодаря Католической церкви (которая, тем не менее, будет настойчиво ее к этому побуждать), к целостному христианскому опыту, — чтобы показать парадоксальность того, как религия вскрывает фантастическую мощь невроза, и что те, кого она признает отступниками, являются жертвами и своей религии, и своего невроза. Но этот переворот произойдет только в XIX веке, то есть в ту эпоху, когда позитивистская дефиниция психического заболевания уже будет выработана.