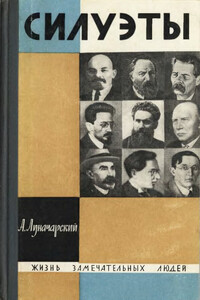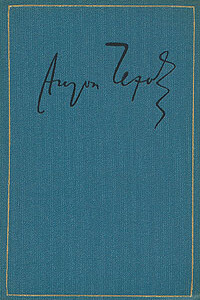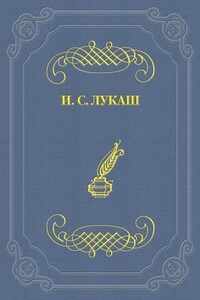Идеи в масках | страница 26
Смертельно бледный Лощинский долго смотрел на телеграмму, в то время как ахали Адель и ее отец. Потом он откинулся на спинку своего дрянного мягкого кресла. Из его закрытых глаз по тощим щекам катились слезы.
— Вам нехорошо, Игнатий Яковлевич? — спросила Адель.
— Разве мне может быть теперь нехорошо?
— Вот это я понимаю! Вы знаете, достоуважаемый пан Дзюбецкий, сколько они мне прислали денег? Они прислали мне триста рублей. Но с этим можно объехать вокруг света! И они пишут мне, что берлинское издательство Кусевицкоаго… Не кто-нибудь, а Кусевицкий, первый виртуоз на контрабасе и знаменитый дирижер, предлагает мне продать ему все мои творения. Это значит, что я теперь Крез. Это значит, что мы едем все в Краков. И вы, и Адель. Что? Возражения? Нет, теперь я сам кто-нибудь, и мои слова значат что-нибудь. Чтобы я допустил ваше отсутствие на первом концерте, где будет впервые исполняться мое творение? Одного я боюсь ужасно, как бы нам не опоздать. Надо ехать сегодня. Я хотел заказать себе платье, но я куплю готовое. Не надо, чтобы бросалась в глаза моя бедность. Подумают, что я хочу кого-то разжалобить… А говорят, что не бывает чудес! Это — чудо!
В огромной зале оперного театра было совсем темно. Публики не было слышно. Она присмирела. Ей было страшно. На залитой огнями сцене стройная фигура дирижера царила над сотней музыкантов, но их не было видно. Казалось, что их не видно потому, что тут кто-то умирал. Кто-то, для всех страшно важный, нужный и дорогой. Может быть, это угасало солнце? Может быть, это оно замирало и вспыхивало как потухающая лампа, каждый раз конвульсивнее и слабее и, может быть, это холодеющий и пустеющий мир сдержанно рыдает, боясь громким плачем сократить роковые минуты? Или, может быть, это умирает Бог и покидает все живое, разумное и страдающее в жертву слепой, безжалостной машине? И все живое, разумное и страдающее — испуганное, трепещущее шепчет, ропщет, умоляет что-то неумолимое?
Дирижер поднял руку, как — будто сведенную судорогой, и оркестр замолк.
— Нет, Он не умер еще… Еще есть искорка жизни. Вот… Вот… Теперь уже конец, — говорит Лощинский. — Теперь Его будут хоронить. Вот это его друзья.
Да, это друзья. Какие они слабые, какие заброшенные; они идут, припадая, колеблющейся стопой. Они останавливаются иногда, заламывают руки. Иные закутывают себе голову, иные падают на землю. Потом опять идут. Сирые, убитые, отчаявшиеся, не только за него страдающие, но за себя, устрашенные перспективой беспомощности, безвыходными длинными путями, безнадежно стелющимися впереди.