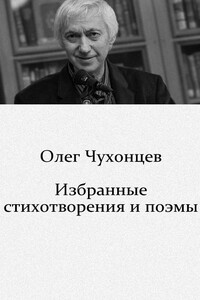В сторону Слуцкого. Восемь подаренных книг | страница 19
«Мы все ходили под богом. / У бога под самым боком».
«— Хуже всех на фронте пехоте! / — Нет! Страшнее саперам».
«Когда мы вернулись с войны, /Я понял, что мы не нужны».
«Давайте после драки / Помашем кулаками».
«Когда русская проза ушла в лагеря…».
«Вождь был как дождь — надолго обложной».
«Все телефоны — не подслушаешь, / Все разговоры — не запишешь».
«Надо думать, а не улыбаться».
«Семь с половиной дураков смотрели „Восемь с половиной“».
«Отягощенный родственными чувствами, / Я к тете шел, / чтоб дядю повидать…».
«Как только стали пенсию давать, / откуда-то взялась в России старость».
«Широко известен в узких кругах, / Как модерн, старомоден».
«Мне легче представить тебя в огне, чем в земле».
Иногда сами названия — и образ, и метод: «Послевоенное бесптичье», «Пляжи сорок шестого года», «Женская палата в хирургии», «Старуха в окне», «Идеалисты в тундре», «Березка в Освенциме», «Статья 193 УК (воинские преступления)», «Непривычка к созерцанию», «Не лезь без очереди!», «Планируя, не зарывайся!», «Польза невнимательности», «Самая военная птица», «Отбор по удвоенности», «Унижение во сне», «Ночные стуки», «Единогласные голосования», «Моральный износ», «Желанье поесть», «Преодоление головной боли», «Как растаскивается пробка?», «Физики и лирики» — и т. д. и т. п.
Стоп! — даже это языковое клише — обыграно рифмой:
«Томисты, гегельянцы, платоники и т. д., а рядом — преторианцы с наганами и тэтэ».
Игровой и образный способ высказывания был его натурой.
«Познакомьтесь, — говорит он мне на коктебельской набережной, представляя миловидной женщине, — Наталья Николаевна Тарасенкова, пишет рассказы, которые начинаются так: „Вечерело…“» И хитро улыбается, а мы смеемся.
Или — возвращаемся в самолете из Симферополя в Москву, я спрашиваю, что он думает о стихотворной книжке Татьяны Глушковой, которой он благоволил. Б.А. откидывается на спинку кресла, несколько секунд думает и: «Силки расставила правильно. Соболь не попался».
Кстати, я пересказал это bon mot Слуцкого Анатолию Жигулину, он восхитился, и каково же было мое удивление, когда спустя какое-то время я прочел беседу с ним в «Вопросах лит-ры», где он повторил этот образ Слуцкого как свой. «Нехорошо, Толя, заниматься плагиатом», — попенял я ему, когда мы встретились, а он долго молчал, потом вздохнул: «Наверно, забыл. А ведь хорошо сказано, а?» «Потому и не забыл, — говорю, — пить надо меньше». Чистая была душа!
Начало и середину семидесятых я вспоминаю как самое тяжелое свое время — время испытаний. Трудно было получить работу (переводческую), за несколько месяцев я потерял родителей, семья треснула, книга зависла. Единственное счастье этих лет — Коктебель, который открыло мне опять же семейство Слуцких, Б.А. и Таня, Татьяна Дашевская, о которой пора наконец-то сказать.