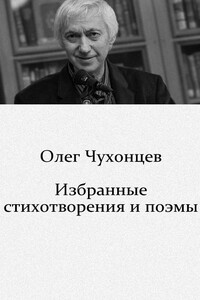В сторону Слуцкого. Восемь подаренных книг | страница 16
Или из близкой уже области, годами позже: «Вы читали поэта Алексея Бердникова?» — «Нет, а что?» — «Написал корону сонетов. Представляете, не венок, — уточняет, как будто я не знаю разницы, — а корону. Это же сколько сложно рифмованных строк. Адская работа», — и усы топорщатся от удовольствия.
Он вообще очень ценил графоманов и сам в каком-то смысле был им. Я не вкладываю в это понятие ничего, кроме любви к писанию. Ничего негативного. Только графоман мог написать столько. (Впрочем, он не столько писал, сколько записывал — но об этом позже.) Понимая, что многие стихи (из лучших!) все равно не будут напечатаны, старался как можно чаще появляться в печати, напомнить о себе, иногда непоправимо калеча свои же шедевры, лишь бы напечатать — и бывал удручен этим, хотя старался не показывать вида.
«Ахматова умная женщина, — сказал он однажды, хотя разговор шел о другом, — дает себя понемногу, по капельке, и ее появления ждут, о ней говорят. А я, — и махнул рукой, — чем больше печатаю, тем меньше читают». «Я думаю, это не ее выбор, она бы с вами могла поменяться», — возразил я, но он как не слышал: «Кто примелькался, того и нет. Ахматова права».
Через много лет, прочтя его стихотворение «Я с той старухой хладновежлив был», я увидел в нем не только внутренний конфликт «республиканца с молодых зубов» и хозяйки своего «королевствования», не поколенческую дерзость, но и смятение перед спокойным достоинством другого, может быть, более зрелого опыта. А старших, особенно учителей, Слуцкий, как никто из его поколения, чтил, обо всех оставил признательные стихи и воспоминания и внушил это отношение своим ученикам и студийцам. И на книге «Память», подаренной Ахматовой, он все-таки написал: «От ученика» (отметила Л.К. Чуковская).
И все-таки на первом месте в его табели приоритетов было мастерство. Умение сработать вещь, а не какие-то там абстракции или духовные веяния. Словесная изобретательность и экспрессия прежде всего. Поиски языка, а не смысла высказывания. Смысл дан. Он в самом языке, в его коммуникативной, а не в семантической функции. В этом он был близок Маяковскому и своему учителю Сельвинскому. Еще Асееву, с которым дружил. Возможно, поэтому ему и понравился больше Панкратов, а не мои стихи из невышедшей книжки «Замысел», где худо ли бедно, но были эти самые веяния. Мне же Асеев, наоборот, представлялся мастером, лишенным не только глубины, но какого-либо содержания, кроме установочного. И его знаменитые строки: «Не за силу, не за качество / Золотых твоих волос / Сердце вдруг однажды начисто / От других оторвалось» казались чистой пародией (одно «качество волос» чего стоит. Чем не Бенедиктов: «В груди у юноши есть гибельный вулкан»?). Но для Слуцкого