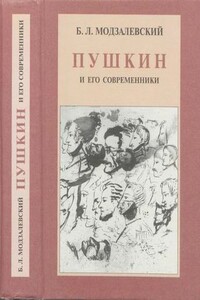Три рассказа из архива на Лубянке | страница 18
— Подайте, будьте великодушны.
Голос был мне знаком.
— Георгий Георгиевич! — сказал я, подходя к нему. — Георгий Георгиевич, хотя вы и в синих очках, скрывающих вашу теперешнюю профессию, но я вас узнал.
Георгий Георгиевич оторвал от себя Андрюшу, и кадык его затрясся от невысказанных слов.
— Георгий Георгиевич, — продолжал я, смотря на его лысину. — Теперь я раскрыл вашу тайну!
Он мне ответил упавше:
— Товарищ Рубаковский!
Но я остановил его:
— Нет!
Тогда он схватил за руку Андрюшу и шепнул ему:
— Проси!
Тот, как и отец, пролепетал:
— Товарищ Рубаковский! У нас отнимут паспорт… Товарищ Рубаковский!
…Ты помнишь этот эпизод? Это было перед самым отступлением Врангеля. В штаб привели белогвардейца. Это был офицер-дроздовец, и на его погонах был черный череп (таких мы сразу пускали в расход). Начштаба хотел выпытать сведения о расположении неприятельских сил, и потому офицер «до особого распоряжения» оставался под караулом. Ты и начштаба задавали ряд вопросов, а офицер нагло смеялся вам в глаза — офицер видел смерть, и нервы его притупились, он знал свой конец и бравировал им. Начштаба нервно играл наганом, он три дня не спал, и наглость офицера раздражала его. Жилы на лбу надулись, и когда офицер, засмеявшись, бросил фразу: «Мы раскатаем через три дня всю красную нечисть!» — начштаба поднял наган, он искал выхода своему раздражению, все присутствующие застыли — сейчас начштаба убьет офицера. На скамье сидела кошка, и выстрел прорезал ее шкуру. Кошка кричала, она кричала, как человек, она разевала рот, и ее лапы выпускали когти. И вот офицер не выдержал и попросил:
— Ради Бога, докончите животное!
Этот офицер был мерзавец, расстреливающий пленных. Один перебежчик рассказывал, как дроздовец вышибал зубы при допросах, а вот крика кошки не мог выдержать.
Андрюшин голос: «Товарищ Рубаковский!» — разбил мои нервы, я смеялся, я смеялся в лицо графа и его ублюдка, а они стояли передо мной и ждали решения.
Мне доставило удовольствие вынуть из кармана пять рублей и положить шуршащую бумажку в руку Георгия Георгиевича. Я сказал:
— Я молчу!
И Георгий Георгиевич, прижав фуражку к сердцу, театрально раскланялся (а на глазах топорщились слезы):
— Товарищ Рубаковский, вы сделали доброе дело, и Нина этого не забудет.
Я прикрикнул:
— Ты не имеешь права произносить ее имя.
И он, покраснев, еще раз поклонился:
— Извините.
Целый день я шатался по городу. Заходил в пивные и спрашивал своих случайных собутыльников: