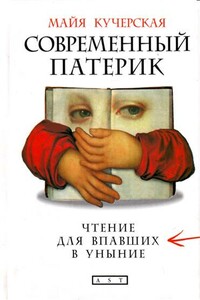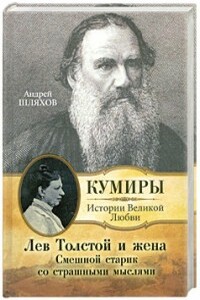Межсезонье | страница 57
– Вы, голубушка, имейте в виду – нужно заранее, очень заранее подойти к дверям, чтоб быть первой. Непременно, голубушка, первой – тогда можно и закуски выбирать, какие вздумается (паштетики тут очень, знаете ли, вкусны, да и семужка с балычком), и водочки нальют еще свежей, холодненькой, и пирожки можно ухватить с капустой, они быстро расходятся.
Сотрудник Института, вальяжный, в дорогом костюме, похожий на сделавшего неожиданно карьеру хомяка, устало кивает на Беллу:
– Приходит каждый раз на буфет. Пасется, пока не наестся. Их тут несколько таких. Как они узнают – ума не приложу, мы ведь не присылаем им приглашения. Но чуют.
Белла призраком возникает в Старом городе – на многолюдной туристической Кернтнерштрассе ее сразу легко узнать по старой полысевшей шубе и пляжной желтой соломенной шляпке с широченными полями. Она стервятником бросается на каждого знакомого, хватает за руку, чтоб не вырвался:
– Как я рада, голубушка, что вас встретила!
Да-да, как она счастлива, что уехала, тут же рай земной, все так хорошо и разумно устроено, а в той стране никогда ничего не будет, она катится вниз по наклонной плоскости, посмотрите, они ж дикари, понятия не имеют о свободе прессы, об общечеловеческих ценностях, они ж спиваются на глазах и вымирают-вымирают… А ты только и думаешь о том, как убежать, смотаться под благовидным предлогом, чтобы быстрым шагом завернуть в сумрачный и влажный переулок, чувствуя спиной ее буравящий взгляд.
А ветераны – кто ж их осудит? Достойная старость, такое дело.
Давид Шмильевич – у них там клуб стариковский самый настоящий – трясет головой, руки в морщинистую складочку разглаживают полу такого же древнего, как он, пиджака.
Он обивает пороги австрийских чиновников, слезящимися глазами глядит в бумаги на непонятном языке, униженно выпрашивает еще одну доплату, еще одну копейку к пособию. По привычке ругает власти – само собой, российские, за задушенную свободу. А по праздникам вынимает из шкафа орденские колонки, бредет по тихим улицам в Культурный институт, чтобы накормили на фуршете, и рассказывает гордо, как бил на войне фашистов, к детям которых ходит с протянутой рукой. Его собственные дети давно в Израиле и Америке и к отцу не приезжают даже раз в год – им все равно, что время его утекает шуршащей пылью, как в песочных часах. Давида Шмильевича и его друзей – таких же уехавших ветеранов – отчего-то жалко. Наверное, оттого, что все получилось совсем-совсем не так, как они мечтали. Оттого, что мечутся, силясь убежать от себя, и не могут.