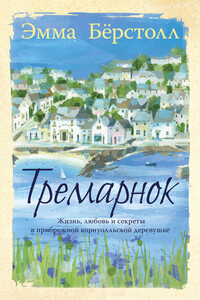Межсезонье | страница 5
…Плюшевый заяц в обломках дома, тонны спасательной техники, людские ручейки – родственники, соседи и мы, журналисты. Вроде никого из знакомых не коснулось? Нет, в бухгалтерии девочка не вышла на работу, жила, кажется, именно там – на улице Гурьянова, где смело с лица земли целые подъезды.
– Дозвонился им кто-нибудь?
– Телефон не отвечает.
Потом – старая женщина с черной косынкой, старик с красными невидящими глазами. Детей и внуков – внучка, та самая девочка из бухгалтерии, – они уже опознали. Никто случайно не ушел к приятелям, никто не ездил на дачу, никто не спасся…
За то, что они испытывали там, под обломками, в последние минуты и часы, можно было простить все грехи и причислить к лику святых – думала я, не зная, что сказать старикам. Как вообще обращаться со смертью – нам же никто не сказал. А церковь не признает коллективного мученичества, канонизируют только избранных. И тут – очередь, конъюнктура, кумовство…
Не хочу быть святой и канонизированной, я хочу жить. И выдрать из себя наконец этот страх, вспомнить, какой я была «до смерти». Тогда – казалось мне – можно спастись, от чего-то, для чего-то.
Но – нет.
Меня – нет. Я совсем уже умерла.
Стационар
«В позе Ромберга пошатывается». И ниже: «Пища выливается через нос». На медицинском бланке – контурной карте моих душевных недугов – пока еще ничего не отмечено.
Толстая невропатолог районной поликлиники – больше похожая на уютную, рыхлую булочницу, – задумчиво чешет нос, стукает молоточком по коленке, щупает пульс, пишет что-то неразборчивое в пухлой карте и тяжело вздыхает.
Я бежала сюда, а внутри все тряслось – мелко, подло, болезненно. Это необходимость идти сегодня на работу превратила меня в студень – в момент. И репортаж, где с первых кадров ясно: взорвали еще какой-то дом, кажется, на юге. Собирать материал для репортажа – опять мне.
Просто по картинке – груды кирпича в утреннем тумане – было понятно: на этот раз выживших, скорее всего, не будет. Все, кто, как и я, взбил вечером подушку, стряхнул привычным движением мягкие тапки на пол и подложил под щеку ладонь, засыпая, уже никогда не проснутся.
Руки у меня до сих пор трясутся – они живут отдельной, своей жизнью.
– Мама в коридоре, – еле слышно произношу я.
За эти недели – как быстро сходят с ума, я всегда думала, что это совсем иначе, – я превратилась снова в младшую школьницу. На улицу получается выйти только за ручку с мамой.
Будто не было института, психологических тренингов, чтобы избавиться от застенчивости, работы на радио и самостоятельных поездок за границу. Вместе с домом на Гурьянова рухнула и я. И не было даже сил подумать – отчего я оказалась такой хлипкой, без добротных перекрытий и хорошего бетона.