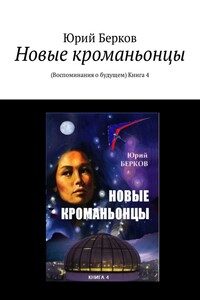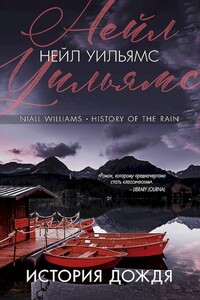КОГИз. Записки на полях эпохи | страница 68
Познакомились мы при весьма памятных обстоятельствах на одном из поэтических «пильниковских» четвергов в Доме ученых. Наш Старик – Борис Ефремович – вдруг прервал свою проповедь и нарочито патетически произнес, глядя через наши головы в глубь зала: «А вот и живые классики пожаловали нас своим посещением. Могу представить – Адрианов и Уваров. Давайте читайте новые стихи. Вы же знаете, как у нас заведено».
Первым читал Уваров – что-то про охоту и медведей, картинно, с уваровской многозначительностью. Потом встал Адрианов; так, как в тот вечер, он больше при мне не читал никогда: артистично, с вызовом всем слушающим. Он читал «Выводите полки на Сенатскую площадь» – стихотворение, только что написанное и нигде не опубликованное.
У меня перехватило дыхание, вся пишущая братия, сидевшая в аудитории, завороженно молчала. Бодрился только Игорь Чурдалев; толкнув меня в бок, чтобы я не расслаблялся и помнил наш с ним принцип: эпатировать окружающих при любой возможности и любых обстоятельствах. Он встал и обратился к нашему Старику: «Борис Ефремович! У нас уже есть два классика: Пушкин да вот он, – и указал на меня пальцем. – Если мы каждый день будем разбрасываться этим званием, то очень быстро его дискредитируем. Давайте дадим им какие-нибудь другие звания». Закончился для меня тот вечер в туалете Дома ученых, где мы с Адриановым и Иудиным пили красное алжирское вино «Монтень де Лион».
И начал я с Юрой с того дня дружить. Объективно вроде бы мы не прилагали к этому никаких противоестественных усилий, но судьба нас сама выводила друг на друга, и мы радовались этому. Точек соприкосновения было в те годы так же много, как и сейчас. Начав с «Чайки» через «Бригантину» и «Оленя», через «Источник», веранду «Москвы» и «Спортбар», маршрут мог продлеваться до «Дружбы», «Космоса» и «Нижегородского» и даже до «Серой лошади».
Но это были «холодные» точки, а настоящая богемная жизнь кипела в мастерских художников.
В начале 70-х «Выставка четырех» (Д. Арсенин, Евг. Рудов, К. Шихов, А. Павлов) наделала столько шума, что принесла им не только славу и шикарные мастерские по двести квадратных метров, но и приличные заработки за их монументальные мозаичные панно, которыми в ту пору стало модно оформлять не только интерьеры, но и фасады зданий. Расценки были такими бешеными, что художников, получавших эти подряды, стали звать «монументалистами-рецидивистами». В их мастерских, обставленных и украшенных в псевдорусском стиле привезенными из деревень самоварами, донцами прялок и коллекциями икон, ежедневно собирались богемные тусовки. На их огонек и стакан слетались не только поэты и художники, но и певцы, артисты, режиссеры и композиторы.