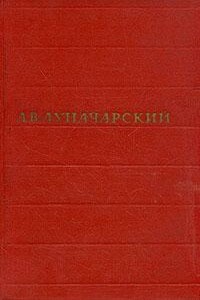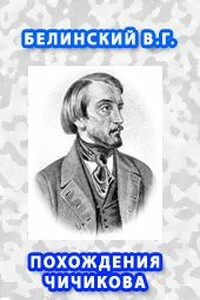Том 4. История западноевропейской литературы | страница 56
Когда церковная организация заметила, что империя, с которой она заключила союз, рушится под давлением варваров, она моментально перешла на их сторону. Ей легко было сделать это, чуть-чуть изменив христианство, приспособив его к различным местным верованиям, прославив их, превратив старых богов в чертей или в святых. Сила церкви переселилась и в новый, варварский мир. Ее проводником, ее самой прочной организацией было само духовенство, особенно монашество. Оно стало не только политической, но культурной и колоссальной экономической силой.
В обмен за эту услугу, за то, что церковь поддерживала власть властвующих, что она перенесла на новую рыхлую варварскую почву остатки римской культуры, она получила от новых властелинов великолепные земли, крепостных, торговые привилегии и стала землевладельцем, ростовщиком, торговцем. Вместе с тем церковь приобретала и значительное влияние на феодалов и королей. В тот суеверный век люди, проклятые как колдуны, стояли вне закона; тем же приемом пользовалась и церковь, — она отлучала от себя непокорных королей, ставила их этим вне закона, и они погибали. Все то, что чтилось в жрецах, перешло на священников. Выходило так, что без церкви нельзя ни умереть, ни родиться, ни жить, потому что будешь проклят. Христианская церковь приобрела громадную силу.
На первом месте в средневековом строе стоит класс духовенства, который вербуется всюду, из разных классов, но главным образом из правящего; всякий завербованный превращается в элемент церкви. Рядом с ним — класс феодалов, который весь строится на хищничестве, поддержанном взаимными союзами. Всякий хищник, всякий барон и граф сейчас же пал бы под мечом других хищников, если бы он был одинок. Отсюда естественное стремление образовать сложную комбинацию сеньоров и вассалов, которые давали друг другу клятву верности. Но для того, чтобы клятва держалась, нужно, чтобы социальные связи и институты были сильными. Поэтому верность вассалов, покровительственная любовь суверена к вассалам, преданность рыцарей друг другу (когда они в союзе) и всяческое прославление чести, военной отваги или военной предприимчивости, бесстрашия — это естественная социальная доктрина феодального дворянства.
Таким образом, мы имеем, с одной стороны, духовенство и феодалов, с другой стороны — крестьянство в полурабском состоянии, которое становится, чем дальше, тем более невыносимым.
Четвертым крупным элементом средневекового общества являются города, — частью города, перешедшие еще от Рима, частью вновь возникающие на перекрестках торговых путей — там, где организуются ярмарки, там, куда съезжаются купцы и ремесленники и строят «бург», то есть кремль, куда можно спрятаться от внешнего нападения. Эти города становятся постепенно все более людными, населенными. Бюргеры (горожане) были заинтересованы не только в том, чтобы их города были возвеличены и независимы, но и в том, чтобы по дорогам не грабили, чтобы на каждом шагу рыцари-разбойники не накладывали на проезжих всевозможных даней. Поэтому им нужно было организоваться. Эти торговые города сами владели иногда целыми провинциями и эксплуатировали их, собирая разные товары для продажи. Городские купцы и ремесленники заинтересованы в некотором правовом укладе всей жизни вообще, но этим отношениям не находится места в феодальной системе. Поэтому, выросши из феодализма, город делается противоположной ему силой и в скором времени встречает для себя поддержку в королевской власти, которая также перерастает рамки феодализма. Королевская власть, поддерживаемая буржуазией, противополагает себя феодалам. Но она в состоянии сломить и буржуазию, собрав против любого ее города деревенский поход своих вассалов — герцогов и графов. Это дает возможность королю маневрировать своей силой, и таким образом получаются своеобразные союзы и своеобразные распады союзов королевской власти, крупных феодалов, мелких рыцарей, крупной буржуазии, мелкой буржуазии, римско-католических архиепископов и низшего духовенства.