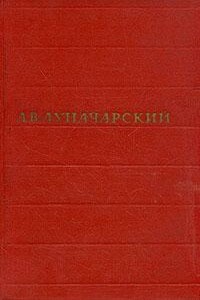Том 4. История западноевропейской литературы | страница 45
И Еврипид дискутировал, и его герои дискутировали. Он редко приводит к какому-то примиряющему концу. Нет такого примиряющего конца, — трагедия изображает просто конфликт.
Например, страшна его драма «Медея». Ясон женился на Медее, которая полюбила его и спасла его в тяжелое для него время. Затем, когда они приехали на родину, он хочет жениться на царской дочери. Он приходит к Медее и говорит: «Я люблю тебя и детей и хочу, чтобы вам было хорошо; а для того, чтобы вам было хорошо, я должен быть богатым и могущественным. Если я женюсь на дочери царя, я смогу вас сделать счастливыми — поэтому я на ней и женюсь». Она отвечает: «Хорошо, я довольна, и я твоей невесте пошлю в подарок диадему и одежду». Вещи эти отравлены, невеста надевает их и в страшных муках умирает. Потом Медея убивает всех детей Ясона. При этом она рассуждает так: «Это мои дети, и я их очень люблю; мне хочется, чтобы они жили. Убить их — для меня огромное несчастье. Но ведь это дети Ясона, который враг мне, и поэтому я должна их убить». Она приводит аргументы за то, чтобы их не убивать, и аргументы за то, чтобы убить, — и убивает.
Конечно, никакого поучения для общества здесь быть не может. Ужасные, преступные люди, прикрывающие свои низкие свойства, свой эгоизм высокими словами!
В этом есть нечто глубоко отвратительное. Общественность существует, поэтому надо оправдать себя перед ней воинствующей речью. Но я знаю, кто вы внутри, говорит Еврипид: вы — дикие кошки, готовые каждую минуту друг друга растерзать. И отсюда его глубокий пессимизм, благодаря которому он великолепно изображает этот хаос человеческой борьбы, когда люди ссорятся, грызутся и не находят выхода.
К Еврипиду близок и величайший комедиограф Аристофан.
Аристофан был сторонником аристократии. Он прекрасно понимал, что все эти философы-спорщики разлагают государство и что надо бороться против них. Чем? Смехом. Он решил, что это самое великолепное оружие, каким может вооружиться аристократия для того, чтобы ввести в рамки подпорченную, подгнившую мещанскую демократию.
Возьмем его пьесу «Облака». Старик разорился и не знает, как расплатиться с долгами. Он слыхал, что у софистов можно научиться отболтаться от долгов. Он идет к лучшему из них — к Сократу, а тот наблюдает облака и говорит: ни в каких богов не верю, кроме облаков; остальное, говорит, все глупости. Старику кажется, что это дурно, он возражает. Он не может понять мудреца. Сократ его прогоняет. Тогда он посылает к софисту сына. Тот оказался понятливее и впоследствии доказал, что его отец не только не должен никому, а даже заимодавец его чуть ли не оказался ему должным. Но когда сын вернулся к отцу, он выгнал отца из дома и объявил себя хозяином. Старик стал ему возражать, но тот ему доказал по всем правилам софистики свое право поступить так.