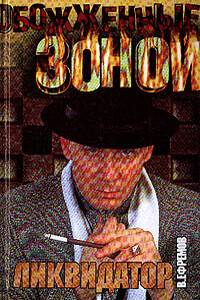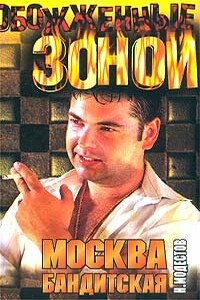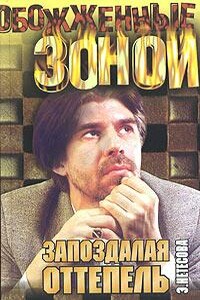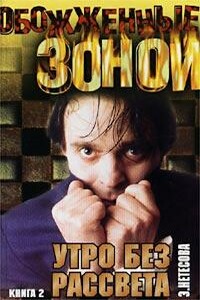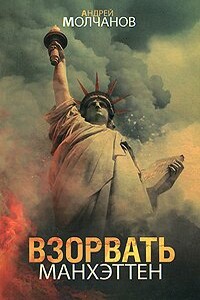В снегах родной чужбины | страница 53
Федька понял все сказанное и невысказанное. Он тоже слышал о реабилитациях. Узнав о них впервые, пошел в поселок вместе с сосновскими мужиками. Узнать хотели, когда их, высланных ни за что, отпустят власти из ссылки. Очистят документы, разрешат вернуться в свои родные места, в свои дома. Пусть не извиняются. От этого теплее не станет, не просили вернуть отнятое иль выплатить компенсацию. Лишь бы разрешили уехать с чужих мест.
— С чего это решили, что реабилитация к вам относится? Ни в коем случае! Она касается невинных людей, пострадавших из-за доносов. А вы — кулачье! И это доказано документально! Реабилитация к вам не имеет никакого отношения. Она оправдала тех, кого мы считали своими политическими противниками. Вы — социальные враги! И будете в ссылке до полной победы мировой революции! — ответили ошарашенным сосновцам в поссовете, раз и навсегда отбив у них всякую веру в правду…
— Правда? — Влас обнажил крупные желтые зубы в громком хохоте. — И ты лопухи развесил? Да ту правду вконец бухие или малахольные ищут. В нее даже «зелень» не верит. Вся правда в кулаке да в мошне. Другой — нету! — говорил Влас.
— Мне мать рассказывала, что всякая брехня перед Богом взыщется с каждого, — вспомнил Федька.
— Тогда сначала их трясти станут. Тех, из-за кого мы такими стали. Они больше нас лажанулись. И уж коль есть Бог, то ни одна лярва его суда не минет. Никто не стемнит. И, может, получим мы за нынешнее другую жизнь. В награду. Без стукачей и падлюк, без ментов и тюряг, — разгладились морщины на лице Власа.
— И без воров, — добавил Федька.
Власа словно кто ужалил:
— Ну, это ты уже загнул! Да без фартовых нигде не дышат! Ты секи, Ева — баба первородная, без Божьего разрешенья сперла яблоко познанья с райского дерева. А значит, кто она? Воровка! Нашей крови!
— За что ее вместе с Адамом выгнал Бог из рая. И наказал, — прервал Федька.
— Наказал! Верняк! Но из шкуры не вытряхнул! Здоровье не отнял, самих не замокрил. Хотя — Господь! Не приморил в яме, как падлу. Дышать дал. И плодиться. Вот и мозгуй, чье мы семя-племя? Тот грех праматери и нынче с нами, в нас живет. Но мы не у Бога, у равных себе берем. За обиды и горе, какие от смертных терпеть невозможно. Да разве приклеился бы я к «малине», если б тогда по молодости не сунули меня мурлом в парашу мудаки от властей и их лизожопые? Да если б дали возможность закончить институт, зарабатывать на жизнь, не оказался б я среди блатных. Не знал бы их никогда! Меня к ним — впихнули! Искалечили и судьбу, и жизнь. А потом хотели убедить, что таким родился! На суде мне говорили, мол, файней ожмуриться было, чем так выживать! Что я семью свою опозорил. Реабилитированную! А что ж не сдох тот, кто эту семью в пыль пустил? Почему он дышит? И теперь — никто шкурой не поплатился! Жиреют! А я не должен был дышать! Вот диво! Послал их всех! И на суде никогда не пользуюсь последним словом подсудимого. Не верю никому. Умевший мокрить не пожалеет. Это я знаю по себе.