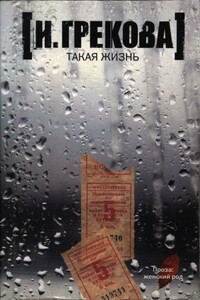Кафедра | страница 35
Там, на апатитах, встретила она своего суженого, вышла замуж. Брак был недолгим: муж скоро сгинул, «ушел по преступлению», как она выражалась. В чем было преступление, долго ли сидел муж и куда потом делся, не говорила. Слава богу, детей не успели нажить. Дальше было у нее «мотание жизни», пока не вывело на прямую дорогу: поваром в рабочей столовой, где и проработала она до пенсии. Готовила без особых затей — просто, чисто и честно, до шефа, однако, не дослужилась — образования не хватило. Уходя на пенсию, получила памятный подарок — весы, которыми очень гордилась, особенно надписью, выгравированной на чашке: «Уважаемой Дарье Степановне Волковой от коллектива столовой № 85 за честный труд и нерасхищение». Охотно показывала весы любому желающему с тем же отблеском улыбки на бледных красивых губах, но вообще о прошлом говорить избегала. На расспросы профессора (он на старости лет стал болезненно любопытен) отвечала кратко и сухо:
— Жила, и все. Как люди, так и я.
— Люди по-разному живут.
— И я по-разному.
Помогать Завалишиным по хозяйству она начала еще при Нине Филипповне, жалея больную, слабую, неумелую женщину. Конечно, ей за это платили, но дело было не в деньгах, а в жалости (из-за одних денег не стала бы прислуживать никому). В последний год жизни Нины Филипповны, когда та совсем уже ослабела, Дарья Степановна ходила за ней как сиделка, строгая лицом, нежная руками: умывала, кормила, причесывала.
Как-то само собой получилось, что после смерти жены, похорон, соболезнующих визитов, когда все это схлынуло, Энэн оказался целиком на попечении Дарьи Степановны. Она заправляла всем в доме: покупала ему одежду, обувь, стирала и стряпала, ведала квартирной платой, счетами за газ и электричество; сама себе выдавала зарплату, уменьшив ее против прежнего вдвое: «Один человек, не два». На все истраченное она представляла хозяину счета, точные до копейки. Писать и читать она вообще не любила, составление счетов было для нее тяжкой работой, а то, что он их никогда не проверял, — обидным пренебрежением. А вообще она была к нему по-своему даже привязана, он был для нее как ребенок — лысый ребенок, ничего не смыслящий в жизни. И любопытство его она воспринимала как зряшное, ребячье:
— И все-то вы спрашиваете, чего, почему да как. Самим пора понимать. До таких лет дожили, ума не нажили.
Только о своем детстве она рассказывала охотно, даже в подробностях.
— Бедность была. Родилась я, царство небесное, мать рассказывала, окрестить нечем. Всех нас семеро: пять парней, две девки, да еще два парня, спасибо, померли. Я из девок-то вторая была. Старше меня здоровущая, об дорогу не убьешь, сыпняком померла в гражданскую. Родилась я, значит, крестить, тогда без этого и не знали чтобы. Мать попу яиц крашеных, луковая скорлупа, о Пасху было, с-под икон полотенце вышитое, елки да солнышки. А он, поп, пьяный с праздника, не Дарьей окрестил, а Дареем, мужеска пола. Так и метрики дал.