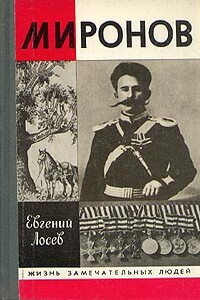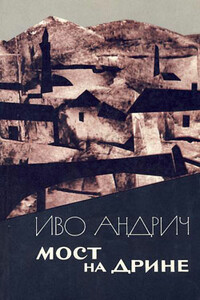День проклятий и день надежд | страница 8
Все мои чувства выражались, в движении ног — ноги; то замирали, то принимались растерянно или, наоборот, радостно раскачиваться. Какое-то слово, видимо, произвело на меня особое впечатление, и я, забыв о притаившихся подо мной углях, дал волю своим ногам. Чайник опрокинулся. Выплеснутая вода вскинулась огненным паром и ожгла меня. Надо ли рассказывать, какую боль испытал я!
На слабость моего голоса никто не мог пожаловаться, но тут я превзошел все, на что был способен. Матушка схватилась за голову и кинулась ко мне на помощь.
— Вай! Горе мне! — запричитала она, откидывая курпачу.
Меня вытащили из пекла в жалком виде. Ноги мои были пунцовыми и почти на глазах стали покрываться волдырями.
— Правду говорят, беда под ногами у человека, — суетилась мать, не зная, как облегчить мою участь, — и зачем только поставила я чайник в этот несуразный сандал… И как это угораздило меня!
Дядя, хоть и был огорчен случившимся, сохранял спокойствие.
— Сделайте, сестра, примочку из соленой воды, это верное средство, — сказал он рассудительно. — А отчаиваться не стоит. Не это, так другое бы случилось. Такова жизнь. Пусть лучше ожог, чем глубокая рана. К тому же, Назиркул опалил лишь верхнюю кожу, она и без того должна меняться у человека… Через два-три дня все заживет…
Два-три дня растянулись на целые полмесяца. Кожа слезала без всякого желания, хотя дядя Ашурмат и говорил, что она обязана меняться у человека. Во всяком случае, она, эта самая кожа, не торопилась. На месте ожогов образовались ранки и долго не заживали. Ходить я не мог и лежал целыми днями в комнате, опасливо поглядывая на сандал.
Болезнь и вынужденное одиночество были первым моим испытанием, узнаванием того, что у взрослых называется дружбой, верностью. Мне было тоскливо. Улица, затянутая дождем, казалась самым веселым местом, школа, где мы повторяли до отупения совершенно непонятные слова, рисовалась в удивительно радужных красках, а товарищи были прекраснейшими из прекраснейших. Да, своим наивным детским сердцем я чувствовал утрату и со слезами на глазах смотрел на блеклее от тумана окно.
Меня помнили. Счастью моему не было предела, когда на третий день растворилась дверь и в комнату вошла тихая и чуть застенчивая Адолят. Пришла мокрая от дождя, но такая обычная, что я забыл о болезни, словно ее и не было.
— Я буду заниматься с тобой, братец Назиркул, — сказала Адолят и протянула мне леденец. Знакомый леденец. Удивительно вкусный.