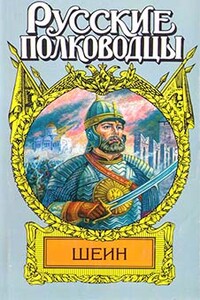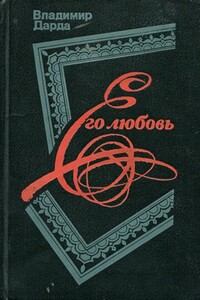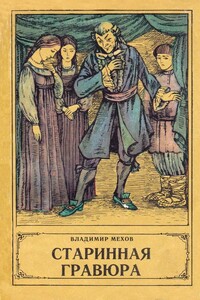День проклятий и день надежд | страница 60
В тишине, что рождена восхищением, девушка закончила танец и замерла. Наградой ей были громкие возгласы одобрения и благодарности.
После танца, как и после пения чангавузов, было сладко и необыкновенно хорошо на душе. Мне самому хотелось петь, плясать, мчаться по зеленому ковру сада, делать необыкновенное. Кричать, чтобы все вокруг знало о моей радости.
И я бежал по саду и что-то выкрикивал, как и остальные мальчишки, смеялся безо всякой причины.
Было еще одно зрелище, восхищавшее меня в день Навруза, — катание на качелях, тех самых качелях, что мы подвешивали перед началом праздника. Некоторым удавалось подвязать их на очень длинных веревках — метров в десять-двенадцать — к самым высоким деревьям или между деревьями. Вот на этих больших качелях состязались девушки в удали и смелости. Я не мог смотреть без замирания сердца на этот полет в поднебесье.
Полет начинался с медленных раскачиваний, когда, пружиня ноги, приседая и вытягиваясь в рост, откидывая головы с десятками веселых косичек, устремленных в разные стороны, будто стая ласточек, бесстрашные красавицы бросали себя ввысь, туда, где царил весенний ветер и горело солнце. Там, именно там, была свобода. Оттуда, с высоты, на короткое мгновение они, эти вечные затворницы ичкари, бросали земле свой трепет сердца, свой вызов.
Если бы можно было оторвать нити, связывающие их души и тела, и полететь. Полететь вольными журавлями, которые в дни Навруза проплывали курлыкающими треугольниками над Джизаком, маня за собой узниц!
Не рвались крепкие нити, не улетали девушки. Только казалось, что они летят.
Иные вспархивали так высоко, что люди внизу кричали:
— Ой, страшно!
Но разгоревшееся сердце не слушалось, не могло остыть от чужого возгласа, и все летело и летело, пока голова не начинала кружиться. Самой смелой и неудержимой в полете была все та же юная танцовщица, покорившая всех своей красотой и своим искусством. Она забралась так высоко, что тонкое тело ее вырвалось подобно соколу на простор, над макушками деревьев и одно-одинешенько парило там. Все в солнце, все в ветре!
— Остановись! — предостерегали внизу.
Она не слышала людей. Казалось, уже покинула их навсегда и теперь породнилась со свободой. Лицо ее горело румянцем, глаза были широко открыты, голова запрокинута назад. Когда она пролетала над нами и короткое мгновение мы были близко от нее, я видел, что губы у девушки улыбаются счастливо и светло, как в волшебном сне, и ничего, ничего не нужно ей, кроме высоты и этого упоения волей.