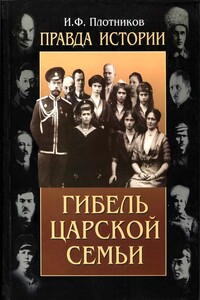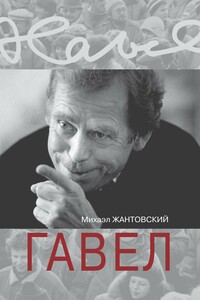Со святой верой в Победу | страница 22
Таким, в таком состоянии, умонастроении застала меня, 15-летнего школьника, Великая Отечественная война. С ее же началом настроение в пользу существующей власти у меня резко усилилось. И потому, что вслед за обращением к "братьям и сестрам" И. В. Сталина 3 июля 1941 года сразу изменился весь тон, а во многом и характер официальной пропаганды, постановка воспитательной работы в школе, отношение к церкви и верующим, и потому, что обжигала сердце нестерпимая боль за Родину, оказавшуюся в тягчайшем положении, на краю гибели - потери независимости, причем из-за нападения страны с еще "худшим" политическим режимом. Теплилась надежда (и не у одного только меня - у миллионов!), что спасение независимости страны, наша победа в войне заставят коммунистическую власть, оказавшуюся в предотвращении национальной беды столь позорно-бездарной, изменить свою политику, что она "помягчеет", сблизится с народом, перестанет игнорировать его волю, традиции, зачеркивать и искажать многовековую историю России.
Попутно вспоминается мне, как в 1952 году, будучи аспирантом и фронтовиком, в одном из нескончаемых наших вечерних разговоров с коллегами я как-то рассказал, что моя "крамола" идет с детства, то угасая, то, как сейчас, по окончании войны, вновь нарастая. Меня и очень многих удручало то, что ожидаемых изменений в политике партии после войны практически не произошло; тоталитарный режим сохранялся, коммунистическая трескотня вновь усиливалась, жизнь едва-едва улучшалась, хотя зарубежный мир, даже страны, потерпевшие поражение, приходили в норму, материальный уровень, достаток людей росли. Аспиранты реагировали на откровение по-разному: один из них, мой пожизненный единомышленник, сказанное воспринял с пониманием, а вот другой решил пригрозить, что пойдет "сообщать". Но его устыдили - не пошел. Между прочим, столкновения с этим вторым коллегой, угрозы с его стороны донести были неоднократными. Сейчас он живет в Москве (на поселение в которую затратил годы), на пенсии, по мировоззрению, как и прежде, коммунистичен, но не переработал и на коммунизм, мало что сделал и в науке. Как-то я спросил его: "Ты же мой ровесник, если такой коммунист, патриот режима, то почему же на фронте-то и в армии вообще не был?" Отвечал: "Я был болен..."
* * *
Итак, грянула война, жестокая и тяжкая.
Несколько слов о той поре, когда военные тяготы на фронте и в тылу, реальная угроза смерти явились испытанием человеческих характеров, моральных или, как принято было десятилетиями говорить, морально-политических устоев. Мужская половина населения, вернее, те мужчины, которые могли и должны были браться за оружие, разделились на патриотов родной страны и "уклонистов" трусов, шкурников и негодяев. Причем в городе, где люди меньше знают друг друга, это было не так заметно, как в деревне, где все и всё на виду. Кроме того, в сельской местности жила и живет традиция, своего рода негласная "гражданская обязанность" знать по возможности всех односельчан, и достичь этого даже при минимальной общительности было не трудно. Вот и получалось, что в деревнях и селах все друг друга знали и знали друг о друге многое, почти всё. В ту военную пору здесь много говорили и о тех, кто ушел на фронт, особенно если добровольно и рано ("Семья у него большая, жена плакала - убивалась, а ушел"; "Такой хулиган, на все ему было наплевать, а вот тоже ушел"; "Тихий был такой, вроде бы всего пугался, а ушел и, говорят, храбро воюет, вот орденом наградили" и т. п. и т. д.), говорили и о тех, кто уклонялся от мобилизации, скрываясь в землянке в лесной глухомани, или симулируя с помощью медикаментов и знахарских средств тяжелый недуг перед прохождением комиссии в военкомате, или устраиваясь на военный завод, дававший "бронь". В числе последних, к примеру, был директор нашей средней школы И. Ф. Пастухов - известный в районе коммунистический оратор, командир запаса, который преподавал у нас историю и вел военную подготовку. Таким вот оказался наш сверхтребовательный воспитатель советского патриотизма...