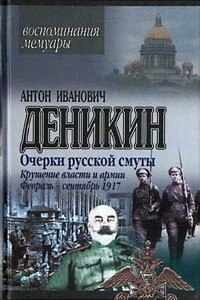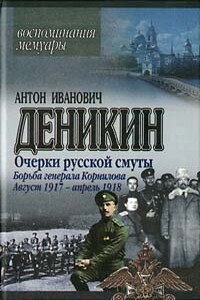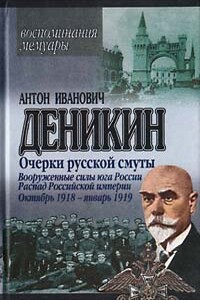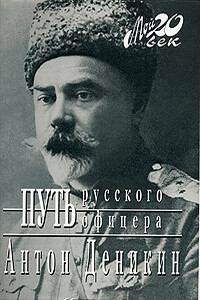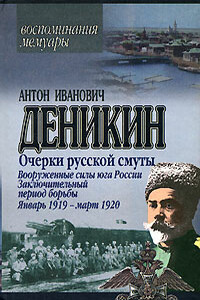Белое движение и борьба Добровольческой армии | страница 35
Прошел месяц, и под влиянием развертывавшихся событий генерал Алексеев вернулся к прежней своей оценке положения.
«Уничтожение большевиков на Кубани, — писал он генералу Щербачеву[74], — обеспечение левого фланга общего стратегического фронта, сохранение за Россией тех богатств, которыми обладают Дон и Кубань, столь необходимых Германии для продолжения войны, являются составной единицей общей стратегической задачи на Восточном фронте, и Добровольческая армия уже в настоящую минуту выполняет существенную часть этой общей задачи».
Пройдет еще два-три месяца, и мы уже в некоторой перспективе будем в состоянии оценить пройденный путь… Мы узнаем о том, что готовил нам на Волге «дополнительный договор» немцев с большевиками; услышим, что подъем в населении Поволжья угас так же быстро, как и возник, что там нам предстояли бы еще более сложные отношения с черновским Комучем. Увидим, что на юге открывается близкий свободный путь к Черному морю и к победоносным союзникам, а армия растет на Кубани непрерывно в числе и силе.
Итак — на Кубань!
Стратегически план операции заключался в следующем: овладеть Торговой, прервав там железнодорожное сообщение Северного Кавказа с Центральной Россией; прикрыв затем себя со стороны Царицына, повернуть на Тихорецкую. По овладении этим важным узлом северо-кавказских дорог, обеспечив операцию с севера и юга захватом Кущевки и Кавказской, продолжать движение на Екатеринодар для овладения этим военным и политическим центром области и всего Северного Кавказа.
Для прикрытия со стороны группы Сорокина я оставил только один полк и два орудия генерала Покровского, который должен был объединить командование и над ополчениями задонских станиц.
Этот план был проведен до конца, невзирая на противодействие вражеской силы и сторонних влияний.
Нас было мало: 8–9 тысяч против 80-100 тысяч большевиков. Но за нами было военное искусство… В армии был порыв, сознание правоты своего дела, уверенность в своей силе и надежда на будущее.
Социал-демократ Дан рассказывает, как летом 19 года где-то на Урале, живя возле красноармейского лагеря, он слышал с утра до вечера солдатскую песню, распеваемую большевистскими полками, перефразировавшими на советско-патриотический лад ее слова. Как толпа дезертиров, окруженных конвоем, оглушала улицы города все той же песнью:
«Так умела казенщина, — заключает Дан, — опошлить все, в чем когда-то сказывался порыв наивного, но, несомненно, искреннего энтузиазма» (?).