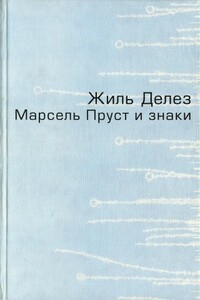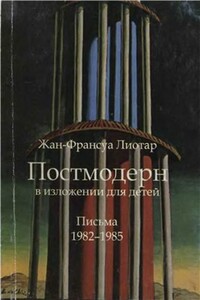Итак, кажется, что на этом этапе мы пытались выбрать между идеализмом, нацеленным на эмпирическое я, и идеализмом трансцендентальным в кантовском стиле. Но ни один ни другой не могут удовлетворить Гуссерля. Первый — поскольку он делает непостижимыми истинные суждения, сводя их посредством психологизма к непривилегированным состояниям сознания, и поскольку он одновременно помещает в один и тот же поток сознания то, что годится и что не годится, разрушая таким образом науки и разрушая самого себя как универсальную теорию. Второй — потому что он только выражает условия
a priori чистого сознания (чистые физика или математика), но не реальные условия конкретного познания: трансцендентальная «субъективность» Канта есть просто совокупность условий, регламентирующих познания
любого возможного объекта вообще, а конкретное я отбрасывается при этом на чувственный уровень как объект (вот почему Гуссерль обвинял Канта в психологизме). Вопрос же о том, каким образом реальный опыт действенно вступает в априорную схему любого возможного познания для того, чтобы допустить использование частых научных законов, остается без ответа. Подобным образом происходит и в
Критике чистого разума, где интеграция реального морального опыта с условиями
а priori чистой моральности остается невозможным по признанию самого Канта. Гуссерль сохраняет, следовательно, принцип истинности, фундированный на субъекте познания, но отвергает расщепление познания и расщепление конкретного субъекта. Как раз на этом этапе он обращается к Декарту.
2. Редукция. — Именно в Идеях феноменологии (1907) проявляется картезианское влияние; оно нависнет над Идеями I, а также, но в меньшей степени, над Картезианскими размышлениями.
Картезианский субъект, достигнутый благодаря операциям сомнения и cogito, является конкретным субъектом, переживанием, а не абстрактной схемой. Одновременно этот субъект — абсолютный субъект, поскольку таков подлинный смысл двух первых размышлений: он самодостаточен, не нужно ничего иного, чтобы фундировать его бытие. Перцепция, которую субъект имеет о себе самом, «есть и остается, поскольку она продолжается, неким абсолютом, неким „здесь-вот“, некой вещью, которая есть себе то, что она есть, некой вещью, которой я могу измерять, в конечном счете, то, что может и должно означать „быть“ и „быть данным“» (Id. phén.). Интуиция переживания посредством самой себя конституирует модель любой первичной очевидности. И в