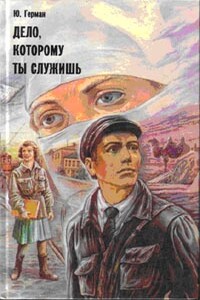Лапшин | страница 8
— Нельзя, — сказал Васька. — Уйди, Патрикеевна, ты мне действуешь на нервы!
Патрикеевна ушла, постукивая деревянной ногой. Васька тоже надел шинель, надушил одеколоном Лапшина свой носовой платок и, бешено стрельнув озорными глазами в зеркало, сказал, что готов.
На улице крупными, легкими хлопьями падал снег. Васька подставил ладонь, слизнул с пальца снежинку и сообщил, что хочет мороженого.
— А еще что? — спросил Лапшин.
Они шли рядом, оба высокие, широкоплечие, в хорошо пригнанных шинелях, и чувствовали, что прохожим приятно на них глядеть.
— Надо жениться, — вдруг задумчиво сказал Лапшин. — Пора, Васька…
И Окошкин не понял, про кого говорил Лапшин: про самого себя или про него.
Когда Ваську принимали в партию, Лапшин выступил с большой речью, и Окошкину стало не по себе, до того подробно и точно Лапшин рассказал о нем.
Поздно ночью они вместе возвращались домой, и Лапшин, попыхивая папироской, назидательно говорил:
— Я тогда в первой бригаде работал. Вызвали меня на двойное самоубийство. И что бы ты думал? Женщина и мужчина, уже не очень молодые, отравились. Какая-то у них там любовь была, в высшей степени сильная…
— Ну и что? — спросил Васька.
Лапшин молчал.
— Вы к чему это? — спросил Васька. — Чтобы я тоже тово?
— Глупый ты, Васька, человек! — с неудовольствием сказал Лапшин. — Дурак ты!
Ужиная картофельным салатом и ложась спать, Лапшин молчал, и Васька слышал, как он долго и печально вздыхал и как трещали и щелкали пружины матраца под его грузным телом, когда он ворочался.
3
Потом наступило лето, и Лапшин один, без Васьки, уехал отдыхать.
Санаторий был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей, и стоял на обрывистом берегу над морем. День и ночь бились в берег волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, что это вовсе не волны, а далекая канонада, что там идет война, а он, Лапшин, просто поправляется в тылу, в лазарете, и вот уже скоро совсем поправится и тогда поедет на фронт к своим товарищам.
И оттого, что он был не в лазарете и не испытывал никаких страданий, и оттого, что пушки не палили и ему не надо было ехать на фронт, ему было и покойно, и весело, и немного досадно.
«Барином живу, — думал он о себе, — жирный стал гусак, цветную капустку ем…»
Он очень подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу молчали, сидя друг против друга в плетеных креслах, или вместе уплывали на час или на два в море. Летчик был лет на семь младше Лапшина и очень боялся людей, боялся потому, что люди часто его узнавали и устраивали ему овации. Тогда он розовел и говорил сдавленным голосом: