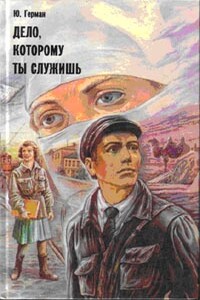Лапшин | страница 24
— Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу…
Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он забывал о мыслях, сам не думал и только напряженно и счастливо улыбался, гляди на сцену, или на экран, или читая книгу, — независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в управлении:
— Сходил я вчера в театр. Видел пьеску одну. Да-а!
И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотал своей круглой упряги головой и опять говорил через месяц или через полгода:
— Представлен там был один старичок. Егор Булычев некто. Нет, с ним бы поговорить интересно. Я таких встречал, но не догадывался. Это старичок!
И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.
— Интересно? — спрашивал собеседник.
— Да пожалуй, что интересно, — неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово «интересно» чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.
По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которая ему чем-то была неприятна. На эту пьесу устраивали культпоход, и товарищи Лапшина очень ее хвалили, и когда хвалили, Лапшин почему-то не верил и улыбался. В культпоходах он никогда не принимал участия — любил бывать в театре один. Ему не нравилось в антрактах обмениваться впечатлениями и вместе пить лимонад. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно, и слишком много говорили.
В этой пьесе речь шла о каком-то, вероятно уже пожилом, человеке, который предполагал, что умирает из-за неизлечимой болезни, и который на этом основании держался особенно жизнерадостно, бодро и притом с ненавистной Лапшину многозначительной простотой, Каждая фраза этого человека раздражала Лапшина. Ему было обидно и грустно еще и потому, что артист, игравший умирающего, с превосходной внешней точностью и правдивостью изображал голосом человека, Лапшину как бы известного, как бы близко знакомого, несомненно существующего и если бы даже и заболевшего смертельной болезнью, то ни в коем случае так бы не державшегося.
Лежа, по своей привычке, лицом к стене и слушая, как обреченный к смерти человек правдивым голосом поучал других восторженных и глупых людей разводить кроликов, Лапшин хотел было уже выключить радио, как вдруг его внимание привлек знакомый голос актрисы, которая давеча похвалила его фотографии. Он сразу узнал ее голос и вспомнил ее лицо — некрасивое, молодое, с круглыми глазами и большим ртом, розовым и ненакрашеным, как у других актрис. Оттого что он узнал ее голос по радио, Лапшину стало приятно. Он повернулся на спину и крикнул Патрикеевне, чтобы она не бормотала и не мешала. В голосе актрисы ему послышалась интонация, обрадовавшая его, — правдивая и, как показалось ему, уловленная не внешне, а изнутри.