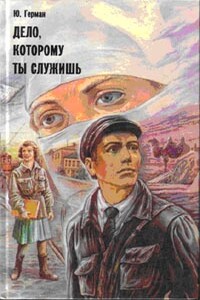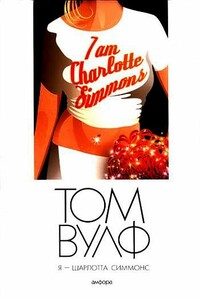Лапшин | страница 10
— Зона — знаю, — сказал Бобка, — а Балтийская — не знаю.
Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше.
— Фашисты? — спросил Бобка.
— Ну да! Эта часть границы, — говорил Лапшин, — составляет около 550 километров. Здесь проходит путь на Ленинград, в этом и есть стратегическое значение удара сюда.
— Погодите-ка! — сказал Бобка. — У меня камень в сандаль попал.
— Ну вынь! — сказал Лапшин.
Бобка сел на дорожку, сиял сандалии с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапши и смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын.
Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдясь себя, своего неумения и, главное, того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал:
— Ну, кидайся!
— Зачем же вы меня раздели? — спросил Бобка. — Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали.
— А мы маме и не скажем! — басом сказал Лапшин. — Ладно, хлопче?
И он слегка порозовел, оттого что сказал, «хлопче» и «мы» и оттого что сам почувствовал, как лжива вся фраза.
Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно соскучился, завял и сказал Бобке, что пора домой.
Назад они шли молча; Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина, а Лапшин думал о том, что пора ехать в Ленинград и что здесь от безделья можно, чего доброго, и вовсе свихнуться.
Через три дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в санатории. У него был казенный костюм — белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком — тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, но потом раздумал и надел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лекаренко стоял и курил на крыльце.
— Уезжаете? — спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе.
— Нет, — сказал Лапшин, — знакомые уезжают.
— Бобочку будете провожать? — поощрительно сказал Лекаренко и вынес Лапшину на блюдце костного мозга, соли и хлеба.
— Покушайте пока что до чаю, — сказал он. — Дюже можете заголодать!
Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой орешника. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним среди олеандров, пальм и кипарисов. И ремень на нем был тугой, и усы он подстриг коротко, как в городе. «Надо работать, — думал он, — надо уезжать и дело делать!»