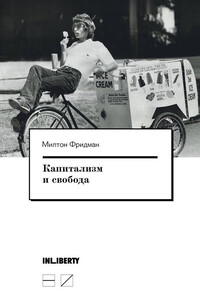О свободе | страница 74
Социалистическая теория и тактика, даже если в ней не господствует марксистская догма, повсюду были основаны на идее разделения общества на два класса, интересы которых лежат в одной области, но являются антагонистическими: класс капиталистов и класс промышленных рабочих. Социализм рассчитывал на быстрое исчезновение прежнего «среднего сословия» и совершенно не принимал во внимание рост нового «среднего класса»:>{28} бесчисленной армии конторских служащих и машинисток, администраторов и учителей, торговцев и мелких чиновников, а также представителей низших разрядов свободных профессий. В течение какого-то периода лидеры рабочего движения нередко были выходцами из этого класса. Но по мере того как все яснее становилось, что положение указанных слоев ухудшается по сравнению с положением промышленных рабочих, идеалы рабочего класса утеряли свою привлекательность для представителей прочих средних и низших слоев городского населения. Правда, все они оставались социалистически настроенными — в том смысле, например, что были недовольны капиталистической системой и выступали за распределение материальных благ между всеми слоями населения в соответствии с собственными представлениями о справедливости; но представления эти оказались совсем иными, чем те, что нашли отражение в практике старых социалистических партий.
Средство, успешно применявшееся старыми социалистическими партиями для обеспечения поддержки какой-то одной профессиональной группы — повышение ее уровня экономического благосостояния по сравнению с другими, невозможно использовать для того, чтобы заручиться поддержкой всех социальных слоев. В результате должны неизбежно возникнуть конкурирующие социалистические партии и движения, апеллирующие к тем, чье экономическое положение по сравнению с другими ухудшилось. В часто повторяемом утверждении, что фашизм и национал-социализм — это нечто вроде социализма для среднего класса, много правды, за исключением того, что группы, поддерживавшие эти новые движения в Италии и Германии, экономически уже перестали быть средним классом. В значительной степени это был бунт лишенного привилегий нового класса против рабочей аристократии, порожденной промышленным профсоюзным движением. Нет сомнения, что ни один экономический фактор так не способствовал этим движениям, как зависть далеко не преуспевающего представителя свободной профессии, какого-нибудь инженера или адвоката с университетским образованием, и всего «пролетариата умственного труда» в целом, к машинисту, наборщику и прочим членам сильнейших профсоюзов, чьи доходы превышали их собственные во много раз.