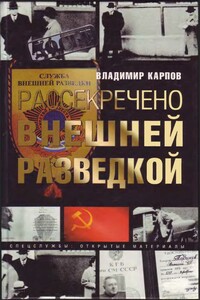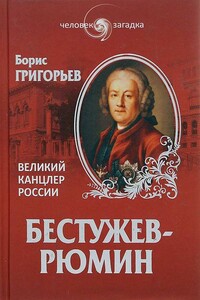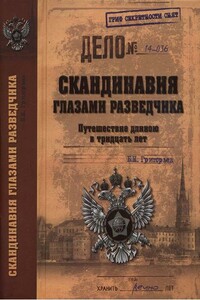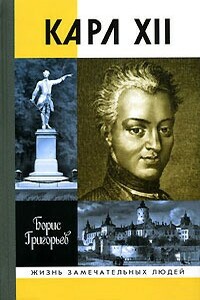Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке | страница 47
И тогда кадровая служба Министерства иностранных дел, естественно, обратила свои взоры на другие, помимо дворянства, социальные слои населения. В МИД стали приглашать сыновей купцов, мелких чиновников и вообще разночинцев, а в XX веке — даже крестьян. Д. А. Абрикосов, выходец из старинной московской купеческой семьи, вспоминал, как он, мелкий служащий Московского архива Министерства иностранных дел, пытался выйти на дипломатическую «тропу». Он часто обедал у князя П. А. Голицына, директора архива, и тот удивлялся желанию молодого купчика стать дипломатом. Абрикосов терпеливо объяснял ему, что времена меняются, что и купцы теперь стали образованными и «учёными», и это, в конце концов, убедило князя, и он даже стал «натаскивать» Абрикосова в некоторых «дипломатических премудростях».
Купеческая и разночинная прослойка в министерстве к концу описываемого нами периода была достаточно представительной. Накануне революции посланником в Лиссабоне был П. С. Боткин, выходец из семьи известного врача. Трудился в Министерстве иностранных дел и его племянник С. Д. Боткин, а секретарь миссии в Рио-де-Жанейро Андреев и уже упоминавшийся нами Абрикосов, второй секретарь в Токио, тоже происходили из купцов. Так что если в начале XIX столетия дворяне составляли 80 процентов дипломатических кадров, то к началу XX их доля уменьшилась до 65 процентов[23]. Тенденция к уменьшению дворянской прослойки быстро прогрессировала, так что уже в 1911–1915 годах из поступивших в МИД 205 человек титулованных дворян было всего 9, в то время как крестьян — 23 человека! В 1915 году выходцы из крестьян составили 11,2 процента дипломатического состава. Как вспоминал И. Я. Коростовец, «плебеев», однако, «держали в рамках», в частности, их посылали работать куда-нибудь в восточные консульства, в то время как титулованных особ старались пристроить в какую-нибудь европейскую столицу. Как бы то ни было, а кадровая демократизация Министерства иностранных дел шла в ногу со временем.
На государственную и на дипломатическую службу во все времена активно брали иностранцев — как европейцев, так и азиатов, обладавших необходимыми языковыми и страноведческими знаниями, а также навыками общения с туземным населением и властями. Ещё при Петре I русская дипломатическая служба получила интернациональное «обличье», и с тех пор процент иностранцев на дипломатической службе царской России только повышался: если в царствование Николая I лица нерусского происхождения среди дипломатических сотрудников составляли 68 процентов, то при Николае II — 81 процент.