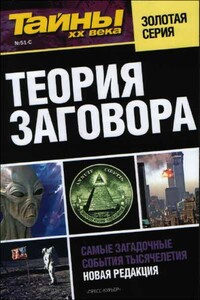Судьбы великих | страница 11
Очевидно, «зародыш писателя» в Гоголе не только отрефлексировал неосознанно жестокий поступок, но и заставил Колю невероятно переживать и казнить себя. Скорее всего, именно этот случай из детства навеял Гоголю эпизод с мачехой, обернувшейся черной кошкой, которой панночка перерубила лапу («Майская ночь, или Утопленница»).
Любой гений желает быть понят своими современниками. Гоголь в этом смысле не был исключением.
В своей статье «Несколько слов о Пушкине» (1834 год) Николай Васильевич обращал внимание на то, что «суд» зрителей над его детскими рисунками был для него мучителен: «…В детстве мне было досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать что нравится, а что не нравится толпе…» Именно знание и изучение вкусов читателей, чему Гоголь уделял немало времени, наряду с писательской гениальностью и позволили Николаю Васильевичу достичь оглушительного писательского успеха.
Приехав в Петербург, Гоголь неожиданно для себя почувствовал здесь атмосферу глубокого интереса к украинской культуре. Он сообщает матери, что «…в Петербурге занимает всех все малороссийское», и просит ее припомнить как можно больше деталей «малороссийской жизни» для «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Повести, будучи изданными, получают засуженные похвалы не только читателей и критиков, но и самого Пушкина.
Гоголь пишет «Миргород», «Петербургские повести», пьесы, поэму «Мертвые души» — некоторые критики до сих пор считают ее наиболее точным проникновением в русский характер. Второй том «Мертвых душ» не мог быть хуже первого! А скандалы, распространяющиеся вокруг поэмы, ранили тонкую внутреннюю организацию Гоголя. Страхи навалились с новой силой, к тому же душевному спокойствию не содействовали тяжелый писательский труд, собственные колебания, давление общественного мнения. Единственное, в чем Гоголь не сомневается, — в силе своего слова.
В 1847 году Гоголь издает книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Открывается она главой «Завещание». Это реальное завещание Николая Васильевича, где, помимо распоряжений о погребении и всяческих наставлений друзьям и почитателям, Гоголь пишет: «Я писатель, а долг писателя — не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего В поучение людям».
И… «Выбранные места…» стали ругать все, кто только мог. «Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять», — удивлялся Гоголь, отвечая Белинскому на его разгромную статью. Удивительно, что, будучи мистиком, Гоголь сразу не понял: опубликовав «Завещание» (которое в норме оглашается после смерти), он действительно… должен был умереть.