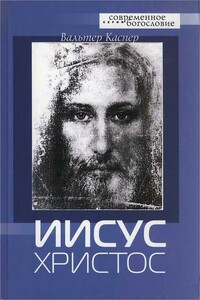Христианский вызов | страница 15
Когда христианские церкви создавали авторитарный или тоталитарный деспотизм, сжигали людей и приносили их в жертву системе, они явно находились — как констатируют их противники и как следует ясно подчеркнуть — в неоспоримом и прямом противоречии с христианской программой, с Иисусом из Назарета. Однако противоречит ли коммунистическая партия коммунистической программе, коммунистическому манифесту и самому Карлу Марксу, если она применяет массовое насилие, создает диктатуру одного класса и партии, беспощадно ликвидирует всех противников и уничтожает «контрреволюционеров», не считаясь с жертвами?
То, что было первоначально сказано о значительном гуманистическом потенциале марксизма, остается неоспоримым. Однако и для многих убежденных социалистов благодаря этому развитию стало ясно: не только ортодоксальный марксизм–ленинизм на Востоке, но и «революционный гуманизм» (Хабермас) западного неомарксизма потерпел неудачу, поскольку он в качестве всеобъемлющего объяснения реальности стремился революционизировать общество. До сих пор он нигде не смог реализовать так громко провозглашаемую идею гуманизации общества и лучшего мира без эксплуатации и господства. Не говоря уже о том, что пренебрежение экономической проблематикой в пользу идеологических и эстетических рассуждений скорее привело к скудной конкретной программе: вопрос об экономической, социальной и политической осуществимости теорий остался без ответа, а идея свободного от господства общества, созданного в результате революционного перелома и развития от социализма к коммунизму, осталась настолько же смутной, какой она была у самого Маркса, и ее более чем когда бы то ни было подозревают в идеологичности.
Однако можно оценивать теорию и практику различных видов марксизма более позитивно. В любом случае не следует недооценивать разнообразные возможности реализовать критическую позицию и гуманистические импульсы социализма для созидания лучшего общества. Наши (вынужденно сжатые) рассуждения, которые каждый может легко дополнить собственным знанием политической ситуации, должны лишь показать, насколько поколебалась идеология насильственной политически–социальной революции, автоматически ведущей к гуманистичности: разве это не саморазрушающая критика, которую нельзя реализовать на практике; не практика, которая выдает свои истинные цели в насилии и угнетении; не революция, которая оказывается «опиумом для народа»; не гуманизация, ведущая к негуманности? Или, суммируя, разве это не революционный гуманизм, нежеланное фактическое следствие которого есть