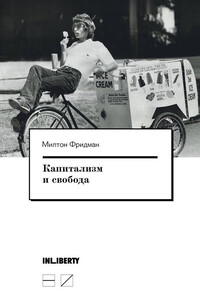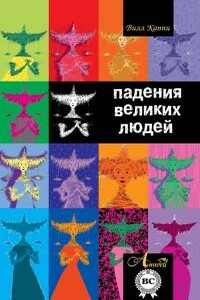Свобода выбирать | страница 77
Воздействие на Федеральную резервную систему
Ирония судьбы заключается в том, что ошибочная политика Совета ФРС привела к его полной победе над Нью-Йоркским банком и другими федеральными резервными банками. Распространение мифа о том, что частное предпринимательство, включая частную банковскую систему, потерпело неудачу и что правительству необходимо предоставить больше полномочий для противодействия нестабильности, внутренне присущей свободному рынку, означало, что именно неудача Системы создала благоприятную политическую среду для предоставления Совету ФРС еще большего контроля над региональными банками. Символом изменения роли Совета было его перемещение из скромных кабинетов в здании Министерства финансов США в величественный греческий храм на авеню Конституции (впоследствии его значительно расширили).
Окончательную точку в перемещении власти символизировало изменение в названии Совета и наименований высших должностей в региональных банках. В центральных банках престижным титулом является «управляющий», а не «президент». В 1913–1935 годах главы региональных банков назывались «управляющими», центральный орган в Вашингтоне назывался «Совет ФРС», остальные его члены были просто «членами Совета федерального резерва». Закон о банках 1935 года изменил все это. Главы региональных банков стали называться «президентами», а не «управляющими»; компактное название «Совет Федерального резерва» было заменено громоздким «Совет управляющих Федеральной резервной системой», только для того, чтобы каждый член Совета мог называться «управляющим».
К сожалению, увеличение власти, престижа и внешней атрибутики Системы не сопровождалось соответствующим улучшением ее функционирования. Начиная с 1935 года Система находилась во главе — и внесла большой вклад — процессов, приведших к сильнейшему кризису 1937–1938 годов, военной и послевоенной инфляции и превращению экономики в подобие американских горок с перемежающимся ростом и падением инфляции и соответствующим снижением и увеличением безработицы. Каждый инфляционный пик и каждый временный спад становились все глубже и глубже; средний уровень безработицы также последовательно увеличивался. Система не повторила своей ошибки 1929–1933 годов, когда она допустила или стимулировала денежный коллапс, но впала в противоположную ошибку, т. е. поощряла чрезмерно быстрый рост денежной массы и, таким образом, способствовала инфляции. К тому же метания из одной крайности в другую приводили не только к бумам, но и к рецессиям, как мягким, так и острым.