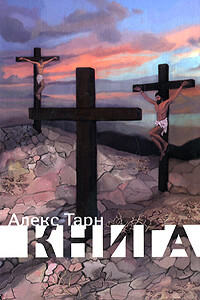Одинокий жнец на желтом пшеничном поле | страница 8
— Какие остальные?
— Ну, жнецы…
— Ах, Толька, ну при чем тут остальные? — нетерпеливо произнесла мать. — Остальные где-то там, сзади. Да это и не важно. Ты на поле смотри, на поле. Видишь, сколько света? И тепла. И красоты.
— Ага, вижу, — сказал Толик.
Он вдруг вспомнил сегодняшнее мерзлое черное поле, коричневые, дымящиеся грязью лужи, чавкающую жижу под резиновыми сапогами, ноздреватый снег и пупырчатую наледь. Вспомнил и поскорее отвернулся, зарылся поглубже в мягкий клетчатый плед.
— Ну что ты затих, бурундук? — засмеялась мама и взъерошила ему волосы на затылке. — Слов не находишь?
Тут мама была права. У маленьких людей и слов немного. Если бы Толик мог, то, конечно, рассказал бы ей, какая черная, холодная, мертвенная изнанка скрывается под этой жаркой желтизной. Потому, что по сути, все поля одинаковы, в какой ты цвет их ни покрась. Потому, что он, Толик, предпочитает лес. Или море. А еще лучше — вот этот диван с маминым боком. Но он не мог всего этого рассказать. А если бы и мог, то вовсе не обязательно захотел бы. Зачем расстраивать маму? Толик поскорее закрыл глаза и уплыл к завтрашнему утру.
Он пробыл на выставке до самого закрытия. Пришедшие вместе с ним друзья-приятели уже давно ушли, а Анатолий все бродил между стендами, восторженно разглядывая такие знакомые по альбомам полотна. Живьем они смотрелись совершенно иначе; он ожидал этого, но все же не думал, что настолько. Останавливаясь перед каждой картиной, Анатолий с трудом удерживался от того, чтобы не сказать вслух: «Здравствуй! Так вот ты какая!» Прежде всего, еще издали, неожиданным оказывался размер; затем обнаруживались цвета, часто совсем не совпадающие с теми, что на репродукциях, прыгали в глаза драгоценные композиционные сюрпризы, а если приглядеться поближе, то повсюду вихрились нескончаемые протуберанцы, запятые, закорючки, улыбки мазков. Это был какой-то необыкновенный праздник узнавания знакомых незнакомок. А под конец, когда толпы схлынули и в двух огромных залах осталось только несколько десятков похожих на Анатолия сомнамбул, он даже временами оказывался с картинами один на один, и в этом заключалась какая-то особенная, головокружительная интимность.
Это чувство жило в нем и потом, когда седенькая служительница из особой породы эрмитажных старушек, ворча про необходимость «считаться с другими», все-таки выгнала его с выставки. Спускаясь по роскошной пустынной лестнице, он ощущал себя абсолютно соответствующим ее царственному величию. Даже наружу на набережную Анатолия выпустили не через обычный полуподвальный выход из гардероба, а самым что ни на есть парадным образом, распахнув перед ним огромные резные выходящие на высокое крыльцо двери. И хотя так делали всегда после закрытия музея, трудно было не усмотреть в этом особую, приличествующую только этому дню символику.