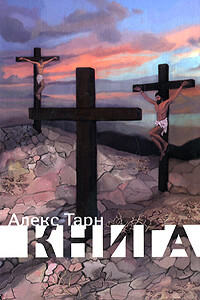Одинокий жнец на желтом пшеничном поле | страница 20
Впрочем, если уж вспоминать о пропасти, то было бы неправильным сказать, что она разверзлась перед ним именно в ту давнюю белую невскую ночь. Все произошло намного, намного раньше, еще в детстве, когда он впервые увидел на репродукции эту ослепительную солнечную желть и безошибочным чутьем определил под ней чавкающую грязь мерзлого мертвого поля. Он знал это всегда, вот в чем дело. Знал и пытался отодвинуть, выстроить между собой и осыпающимся краем непреодолимый барьер слов и вранья. Слов и вранья. Ведь если назвать жажду смерти любовью к жизни, разрушительное безумие — чудесной гармонией, а ненависть к себе — радостью бытия, то вполне можно жить, правда ведь? Внушить себе, что пропасти нет, что вместо нее расстилается невинный лужок с музицирующими пастушками, загнать страшную правду в самые дальние чуланы сознания — и жить.
Да-да, так он и делал, и в этом заключалась его главная ошибка. На самом-то деле надо было действовать совсем иначе. Надо было просто сказать себе: «Эй! Хватит дрожать и заниматься пустым самообманом! Пропасть? Ну и хрен с ней, с пропастью. Пусть себе чернеет на здоровье. Она не для тебя, Толик. Это чужая пропасть. Всего-то и нужно, что сделать несколько шагов и отойти. Шаг и еще шаг, и еще десяток, и еще сотню…»
Собственно, он так и сделал. Разве не свидетельством тому его нынешняя, надежная и уравновешенная жизнь? Да он уже не в сотне шагов, а в сотне километров от края! Странно, что ему понадобилось столько лет плюс случайный визит в Амстердам, чтобы осознать эту очевидную истину…
— Действительно, странно, — произнес Анатолий Александрович вслух и улыбнулся.
Он стоял в зале арльского периода. Вокруг желтели лицами беспомощные портреты, на желтой улице стоял желтый дом, а в нем — желтая спальня и желтые башмаки под желтыми стульями.
— Хрен вам, — победоносно сказал Анатолий Александрович. — Я уже в километрах от вас. Даже дальше.
Он уверенно прошел мимо, к залам Сен-Реми, и как-то сразу, вдруг, обнаружил себя перед «Жнецом». Картина была того же размера, что и креллер-мюллеровский вариант, разве что немного посветлее. Да и солнце здесь стояло повыше, а слева из куста торчало какое-то нелепое дерево, больше похожее на ветку волчьей ягоды. Анатолий Александрович постоял перед картиной, с удовольствием отмечая разделяющее их огромное расстояние, и уже совсем было собрался двинуться дальше, как подошел тот самый давешний пугливый кореец с кинокамерой, а с ним еще кто-то — то ли гид, то ли просто местный знакомый. Они говорили по-английски, негромко, но очень отчетливо, будто специально для Анатолия Александровича.