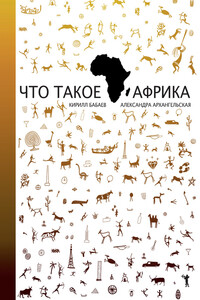Следы трав индейских | страница 14
В девоне настоящих болот еще не было. Поэтому мы не находим в девонских отложениях пластов углей, а те, которые известны, образовались из остатков водорослей (их раньше ошибочно принимали за остатки высших растений). В конце силура — начале девона не было растений с опадающими листьями, так как еще не было самих листьев. Почему же низкорослые девонские растения, изображаемые на реконструкциях по берегам водоемов, попадали в воду и захоронялись? Какие у них были для этого преимущества перед современной травой?
На эти вопросы нет ответа, поскольку исследователи девонских растений не задали себе таких вопросов. Тогда возникает другой вопрос: правильны ли реконструкции девонских ландшафтов, вошедшие в литературу? На каком основании ринии и их современники рассажены по берегам? Может быть, они сидели в воде? И еще такие вопросы: если появление крупных остатков в отложениях верхов силура — низов девона свидетельствует о выходе растений на сушу, то почему мы не видим всех стадий самого процесса преобразования водорослей в высшие растения? Ведь в таком случае все происходило в прибрежных водах, где условия для сохранения геологической летописи наиболее благоприятны. Прибрежно-морские отложения известны в отложениях всех геологических периодов и служат одним из главных источников информации о жизни в геологическом прошлом.
Вспомним теперь упомянутое соображение, что некоторые девонские растения были полуводными. А почему, собственно, некоторые? Почему все те растения, чьи остатки изучают палеоботаники и чьи реконструкции вошли в сводки и учебники, не могли быть водными и полуводными? И почему появление крупных остатков растений в верхах силура — низах девона надо обязательно толковать как следы выхода растений на сушу? Может быть, это следы переселения высших растений в воду. Именно так: не из воды, а в воду.
Достаточно принять эту гипотезу, как многое становится на свои места. Прежде всего находит объяснение факт, что в нижнедевонских отложениях богатство спор гораздо больше, чем можно предполагать по крупным остаткам растений. Это указывает на то, что какие-то растения сидели на берегу и только их споры долетали до мест захоронения. Тогда и силурийские (в том числе и нижнесилурийские) споры можно считать спорами тех растений, которые росли на берегу, так что их стебли не могли добраться до воды и попасть в геологическую летопись. Правда, здесь можно возразить, что, дескать, мы относим время выхода растений из моря на сушу на начало силура и лишь отодвигаем ту же проблему в глубь веков, а не решаем ее. Ведь и в начале силура процесс выхода растений на сушу должен был пройти через прибрежно-морскую полосу, где неплохо ведется геологическая летопись. Записей же об этом процессе в начале силура нет. Стало быть, нет и опровержения гипотезы, что растения действительно вышли из моря и по мере выхода водоросли превращались в высшие растения. Опровергнуть эту гипотезу действительно нет возможности. Но это не достоинство, а дефект любой гипотезы. Неопровергаемость превращает гипотезу в догмат. Эта же неопровергаемость, правда, дает возможность выдвигать иные гипотезы. Скажем, такую: почему бы не предположить, что заселение суши водорослями произошло в досилурийские времена, а преобразование водорослей в высшие растения происходило целиком в наземных условиях? На какой-то стадии этого процесса водоросли обрели способность обтягивать свои споры прочными, химически устойчивыми оболочками. Это событие мы и отмечаем в геологической летописи, когда оболочки спор появляются в силурийских породах. К концу силура уже развились несомненные высшие растения и некоторые из них отправились жить в воду, причем совершенно не обязательно «обратно» в воду.