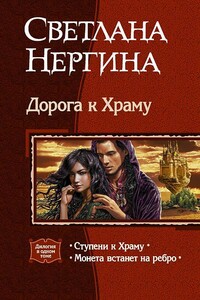Узы | страница 21
Но вместо коней в тумане старик с обгоревшим лицом склоняется над изголовьем: «Эта вещь дороже жизни…» Каторжник, заросший бородой, хватает за шею: «Эта вещь дороже жизни…» Девочка-убийца смотрит дурным глазом: «Эта вещь дороже жизни…»
Вещь не может быть дороже жизни! Нет таких вещей! А если и есть, все равно ничего нельзя сделать. Ничего!
С каплей чужой крови принимаешь на себя не только проклятья рода, но и его обязательства.
Нет же, нет! Это чужая кровь! Чужая!
Чужая ли? Они стоят со всех сторон и не занимают места, словно время раздвигает пространство. Их много, очень много. Они не просят и не требуют — только смотрят. Из глубины времен. Из такой глубокой, где видно кровное родство со случайным прохожим на улице. Они смотрят и ждут.
Кровь рода не дает покоя. И не даст никогда.
— Надень перчатки, — говорит темный человек у дверей квартиры. — Я не хочу тебя подставлять.
— За… зачем? — слова застревают в горле.
— Я сказал: надень перчатки.
— Зачем я вам? Я же привела вас туда, куда вам надо. Этот ларчик здесь, не сомневайтесь!
— Мне некогда проводить обыск.
Звонок издает сладенькое «динь-бом». Шаркают шаги за дверью. И можно сделать вид, что ничего не понимаешь и думаешь, будто «этот» зайдет в квартиру, чтобы поговорить с хозяйкой, предложить ей за ларчик пять тысяч рублей (или долларов). Можно потом сказать себе: «Я не знала. Если бы я знала, я бы поступила по-другому». Но зачем тогда надевать перчатки?
А если не делать вид — то жизнь дочери дороже всего на свете! И своя жизнь тоже, тоже! Это нормально, это правильно, и незачем заранее обременять себя чувством вины! Чувством долга…
Выстрел звучит сухим щелчком, нестарая еще женщина навзничь падает на пол. Сестра. Все они теперь ее братья и сестры… по крови…
— Быстренько осмотрись, — «этот» перешагивает через мертвое тело в прихожей. — Где он?
Голова кружится, как лопасти лодочного мотора, взбивая воздух в пену. Тошнота катится волной, и вместо слов из горла выбивается всхлип.
— Прекрати истерику. Где он?
— Т…там… — рука поднимается сама собой, указывает на стенной шкаф.
На пол летит хлам: старые лыжи, затертые кожаные сумки, коробочки из-под монпансье с пуговицами и тесьмой. Потом книги, альбом — черно-белые фотографии веером рассыпаются по полу, пачкаются в крови. Крови мало совсем — сердце сразу остановилось.
— Точнее!
— Выше. На самом верху.
Пластинки. Граммофонные пластинки, которые бьются, — и они бьются. Марки. Исписанные тетради, подшивки журналов. Все это происходит на самом деле. Это не транс, не чужое воспоминание.